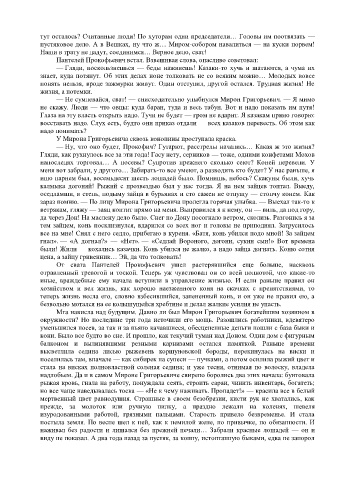Page 492 - Тихий Дон
P. 492
тут осталось? Считанные люди! По хуторам одни председатели… Головы им поотвязать —
пустяковое дело. А в Вешках, ну что ж… Миром-собором навалиться — на куски порвем!
Наши в трату не дадут, соединимся… Верное дело, сват!
Пантелей Прокофьевич встал. Взвешивая слова, опасливо советовал:
— Гляди, поскользнешься — беды наживешь! Казаки-то хучь и шатаются, а чума их
знает, куда потянут. Об этих делах ноне толковать не со всяким можно… Молодых вовсе
понять нельзя, вроде зажмурки живут. Один отступил, другой остался. Трудная жизня! Не
жизня, а потемки.
— Не сумлевайся, сват! — снисходительно улыбнулся Мирон Григорьевич. — Я мимо
не скажу. Люди — что овцы: куда баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путя!
Глаза на эту власть открыть надо. Тучи не будет — гром не вдарит. Я казакам прямо говорю:
восставать надо. Слух есть, будто они приказ отдали — всех казаков перевесть. Об этом как
надо понимать?
У Мирона Григорьевича сквозь конопины проступала краска.
— Ну, что оно будет, Прокофич? Гутарют, расстрелы начались… Какая ж это жизня?
Гляди, как рухнулось все за эти года! Гасу нету, серников — тоже, одними конфетами Мохов
напоследях торговал… А посевы? Супротив прежнего сколько сеют? Коней перевели. У
меня вот забрали, у другого… Забирать-то все умеют, а разводить кто будет? У нас раньше, я
ишо парнем был, восемьдесят шесть лошадей было. Помнишь, небось? Скакуны были, хучь
калмыка догоняй! Рыжий с прозвездью был у нас тогда. Я на нем зайцев топтал. Выеду,
оседламши, в степь, подыму зайца в бурьянах и сто сажен не отпущу — стопчу конем. Как
зараз помню. — По лицу Мирона Григорьевича пролегла горячая улыбка. — Выехал так-то к
ветрякам, гляжу — заяц коптит прямо на меня. Выправился я к нему, он — виль, да под гору,
да через Дон! На маслену дело было. Снег по Дону посогнало ветром, сколизь. Разгонись я за
тем зайцем, конь посклизнулся, вдарился со всех ног и головы не приподнял. Затрусилось
все на мне! Снял с него седло, прибегаю в куреня. «Батя, конь убился подо мной! За зайцем
гнал». — «А догнал?» — «Нет». — «Седлай Вороного, догони, сукин сын!» Вот времена
были! Жили — кохались казачки. Конь убился не жалко, а надо зайца догнать. Коню сотня
цена, а зайцу гривенник… Эй, да что толковать!
От свата Пантелей Прокофьевич ушел растерявшийся еще больше, насквозь
отравленный тревогой и тоской. Теперь уж чувствовал он со всей полнотой, что какие-то
иные, враждебные ему начала вступили в управление жизнью. И если раньше правил он
хозяйством и вел жизнь, как хорошо наезженного коня на скачках с препятствиями, то
теперь жизнь несла его, словно взбесившийся, запененный конь, и он уже не правил ею, а
безвольно мотался на ее колышущейся хребтине и делал жалкие усилия не упасть.
Мга нависла над будущим. Давно ли был Мирон Григорьевич богатейшим хозяином в
окружности? Но последние три года источили его мощь. Разошлись работники, вдевятеро
уменьшился посев, за так и за пьяно качавшиеся, обесцененные деньги пошли с база быки и
кони. Было все будто во сне. И прошло, как текучий туман над Доном. Один дом с фигурным
балконом и вылинявшими резными карнизами остался памяткой. Раньше времени
высветлила седина лисью рыжевень коршуновской бороды, перекинулась на виски и
поселилась там, вначале — как сибирек на супеси — пучками, а потом осилила рыжий цвет и
стала на висках полновластной соленая седина; и уже тесня, отнимая по волоску, владела
надлобьем. Да и в самом Мироне Григорьевиче свирепо боролись два этих начала: бунтовала
рыжая кровь, гнала на работу, понуждала сеять, строить сараи, чинить инвентарь, богатеть;
но все чаще наведывалась тоска — «Не к чему наживать. Пропадет!» — красила все в белый
мертвенный цвет равнодушия. Страшные в своем безобразии, кисти рук не хватались, как
прежде, за молоток или ручную пилку, а праздно лежали на коленях, шевеля
изуродованными работой, грязными пальцами. Старость привело безвременье. И стала
постыла земля. По весне шел к ней, как к немилой жене, по привычке, по обязанности. И
наживал без радости и лишался без прежней печали… Забрали красные лошадей — он и
виду не показал. А два года назад за пустяк, за копну, истоптанную быками, едва не запорол