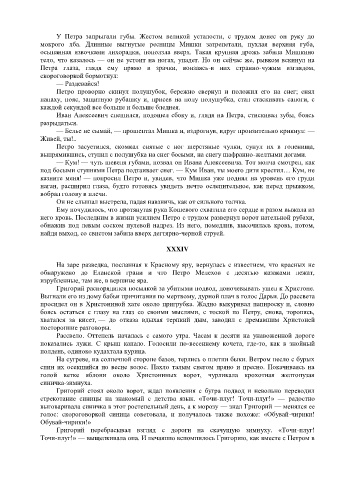Page 524 - Тихий Дон
P. 524
У Петра запрыгали губы. Жестом великой усталости, с трудом донес он руку до
мокрого лба. Длинные выгнутые ресницы Мишки затрепетали, пухлая верхняя губа,
осыпанная язвочками лихорадки, поползла вверх. Такая крупная дрожь забила Мишкино
тело, что казалось — он не устоит на ногах, упадет. Но он сейчас же, рывком вскинул на
Петра глаза, глядя ему прямо в зрачки, вонзаясь-в них странно-чужим взглядом,
скороговоркой бормотнул:
— Раздевайся!
Петро проворно скинул полушубок, бережно свернул и положил его на снег; снял
папаху, пояс, защитную рубашку и, присев на полу полушубка, стал стаскивать сапоги, с
каждой секундой все больше и больше бледнея.
Иван Алексеевич спешился, подошел сбоку и, глядя на Петра, стискивал зубы, боясь
разрыдаться.
— Белье не сымай, — прошептал Мишка и, вздрогнув, вдруг пронзительно крикнул: —
Живей, ты!..
Петро засуетился, скомкал снятые с ног шерстяные чулки, сунул их в голенища,
выпрямившись, ступил с полушубка на снег босыми, на снегу шафранно-желтыми догами.
— Кум! — чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как
под босыми ступнями Петра подтаивает снег. — Кум Иван, ты моего дитя крестил… Кум, не
казните меня! — попросил Петро и, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди
наган, расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком,
вобрал голову в плечи.
Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка.
Ему почудилось, что протянутая рука Кошевого схватила его сердце и разом выжала из
него кровь. Последним в жизни усилием Петро с трудом развернул ворот нательной рубахи,
обнажив под левым соском пулевой надрез. Из него, помедлив, высочилась кровь, потом,
найдя выход, со свистом забила вверх дегтярно-черной струей.
XXXIV
На заре разведка, посланная к Красному яру, вернулась с известием, что красных не
обнаружено до Еланской грани и что Петро Мелехов с десятью казаками лежат,
изрубленные, там же, в вершине яра.
Григорий распорядился посылкой за убитыми подвод, доночевывать ушел к Христоне.
Выгнали его из дому бабьи причитания по мертвому, дурной плач в голос Дарьи. До рассвета
просидел он в Христониной хате около пригрубка. Жадно выкуривал папироску и, словно
боясь остаться с глазу на глаз со своими мыслями, с тоской по Петру, снова, торопясь,
хватался за кисет, — до отказа вдыхая терпкий дым, заводил с дремавшим Христоней
посторонние разговоры.
Рассвело. Оттепель началась с самого утра. Часам к десяти на унавоженной дороге
показались лужи. С крыш капало. Голосили по-весеннему кочета, где-то, как в знойный
полдень, одиноко кудахтала курица.
На сугреве, на солнечной стороне базов, терлись о плетни быки. Ветром несло с бурых
спин их осекшийся по весне волос. Пахло талым снегом пряно и пресно. Покачиваясь на
голой ветке яблони около Христониных ворот, чурликала крохотная желтопузая
синичка-зимнуха.
Григорий стоял около ворот, ждал появления с бугра подвод и невольно переводил
стрекотание синицы на знакомый с детства язык. «Точи-плуг! Точи-плуг!» — радостно
выговаривала синичка в этот ростепельный день, а к морозу — знал Григорий — менялся ее
голос: скороговоркой синица советовала, и получалось также похоже: «Обувай-чирики!
Обувай-чирики!»
Григорий перебрасывал взгляд с дороги на скачущую зимнуху. «Точи-плуг!
Точи-плуг!» — выщелкивала она. И нечаянно вспомнилось Григорию, как вместе с Петром в