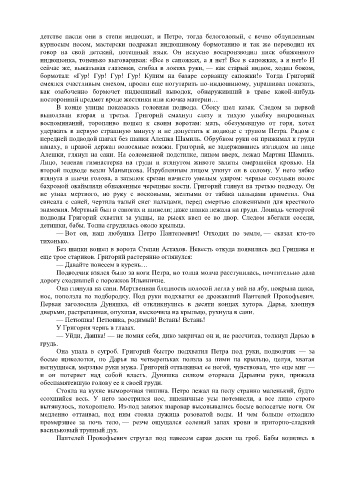Page 525 - Тихий Дон
P. 525
детстве пасли они в степи индюшат, и Петро, тогда белоголовый, с вечно облупленным
курносым носом, мастерски подражал индюшиному бормотанию и так же переводил их
говор на свой детский, потешный язык. Он искусно воспроизводил писк обиженного
индюшонка, тоненько выговаривая: «Все в сапожках, а я нет! Все в сапожках, а я нет!» И
сейчас же, выкатывая глазенки, сгибал в локтях руки, — как старый индюк, ходил боком,
бормотал: «Гур! Гур! Гур! Гур! Купим на базаре сорванцу сапожки!» Тогда Григорий
смеялся счастливым смехом, просил еще погутарить по-индюшиному, упрашивал показать,
как озабоченно бормочет индюшиный выводок, обнаруживший в траве какой-нибудь
посторонний предмет вроде жестянки или клочка материи…
В конце улицы показалась головная подвода. Сбоку шел казак. Следом за первой
выползали вторая и третья. Григорий смахнул слезу и тихую улыбку непрошеных
воспоминаний, торопливо пошел к своим воротам: мать, обезумевшую от горя, хотел
удержать в первую страшную минуту и не допустить к подводе с трупом Петра. Рядом с
передней подводой шагал без шапки Алешка Шамиль. Обрубком руки он прижимал к груди
папаху, в правой держал волосяные вожжи. Григорий, не задержавшись взглядом на лице
Алешки, глянул на сани. На соломенной подстилке, лицом вверх, лежал Мартин Шамиль.
Лицо, зеленая гимнастерка на груди и втянутом животе залиты смерзшейся кровью. На
второй подводе везли Маныцкова. Изрубленным лицом уткнут он в солому. У него зябко
втянута в плечи голова, а затылок срезан начисто умелым ударом: черные сосульки волос
бахромой окаймляли обнаженные черепные кости. Григорий глянул на третью подводу. Он
не узнал мертвого, но руку с восковыми, желтыми от табака пальцами приметил. Она
свисала с саней, чертила талый снег пальцами, перед смертью сложенными для крестного
знамения. Мертвый был в сапогах и шинели; даже шапка лежала на груди. Лошадь четвертой
подводы Григорий схватил за уздцы, на рысях ввел ее во двор. Следом вбегали соседи,
детишки, бабы. Толпа сгрудилась около крыльца.
— Вот он, наш любушка Петро Пантелеевич! Отходил по земле, — сказал кто-то
тихонько.
Без шапки вошел в ворота Степан Астахов. Невесть откуда появились дед Гришака и
еще трое стариков. Григорий растерянно оглянулся:
— Давайте понесем в курень…
Подводчик взялся было за ноги Петра, но толпа молча расступилась, почтительно дала
дорогу сходившей с порожков Ильиничне.
Она глянула на сани. Мертвенная бледность полосой легла у ней на лбу, покрыла щеки,
нос, поползла по подбородку. Под руки подхватил ее дрожавший Пантелей Прокофьевич.
Первая заголосила Дуняшка, ей откликнулись в десяти концах хутора. Дарья, хлопнув
дверьми, растрепанная, опухшая, выскочила на крыльцо, рухнула в сани.
— Петюшка! Петюшка, родимый! Встань! Встань!
У Григория чернь в глазах.
— Уйди, Дашка! — не помня себя, дико закричал он и, не рассчитав, толкнул Дарью в
грудь.
Она упала в сугроб. Григорий быстро подхватил Петра под руки, подводчик — за
босые щиколотки, но Дарья на четвереньках ползла за ними на крыльцо, целуя, хватая
негнущиеся, мерзлые руки мужа. Григорий отталкивал ее ногой, чувствовал, что еще миг —
и он потеряет над собой власть. Дуняшка силком оторвала Дарьины руки, прижала
обеспамятевшую голову ее к своей груди.
Стояла на кухне выморочная тишина. Петро лежал на полу странно маленький, будто
ссохшийся весь. У него заострился нос, пшеничные усы потемнели, а все лицо строго
вытянулось, похорошело. Из-под завязок шаровар высовывались босые волосатые ноги. Он
медленно оттаивал, под ним стояла лужица розоватой воды. И чем больше отходило
промерзшее за ночь тело, — резче ощущался соленый запах крови и приторно-сладкий
васильковый трупный дух.
Пантелей Прокофьевич стругал под навесом сарая доски на гроб. Бабы возились в