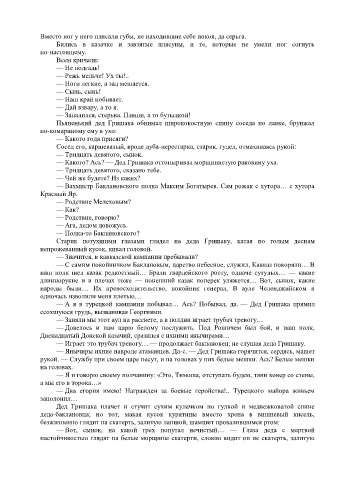Page 56 - Тихий Дон
P. 56
Вместо ног у него плясали губы, не находившие себе покоя, да серьга.
Бились в казачке и завзятые плясуны, и те, которые не умели ног согнуть
по-настоящему.
Всем кричали:
— Не подгадь!
— Режь мельче! Ух ты!..
— Ноги легкие, а зад мешается.
— Сыпь, сыпь!
— Наш край побивает.
— Дай взвару, а то я.
— Запалился, стерьва. Пляши, а то бутылкой!
Пьяненький дед Гришака обнимал ширококостную спину соседа по лавке, брунжал
по-комариному ему в ухо:
— Какого года присяги?
Сосед его, каршеватый, вроде дуба-перестарка, старик, гудел, отмахиваясь рукой:
— Тридцать девятого, сынок.
— Какого? Ась? — Дед Гришака оттопыривал морщинистую раковину уха.
— Тридцать девятого, сказано тебе.
— Чей же будете? Из каких?
— Вахмистр Баклановского полка Максим Богатырев. Сам рожак с хутора… с хутора
Красный Яр.
— Родствие Мелеховым?
— Как?
— Родствие, говорю?
— Ага, дедом довожусь.
— Полка-то Баклановского?
Старик потухшими глазами глядел на деда Гришаку, катая по голым деснам
непрожеванный кусок, кивал головой.
— Значится, в кавказской кампании пребывали?
— С самим покойничком Баклановым, царство небесное, служил, Кавказ покоряли… В
наш полк шел казак редкостный… Брали гвардейского росту, одначе сутулых… — какие
длиннорукие и в плечах тоже — нонешний казак поперек уляжется… Вот, сынок, какие
народы были… Их превосходительство, покойник генерал, В ауле Челенджийском в
одночась изволили меня плетью…
— А я в турецкой кампании побывал… Ась? Побывал, да. — Дед Гришака прямил
ссохшуюся грудь, вызванивая Георгиями.
— Заняли мы этот аул на рассвете, а в полдни играет трубач тревогу…
— Довелось и нам царю белому послужить. Под Рошичем был бой, и наш полк,
Двенадцатый Донской казачий, сразился с ихними янычирами…
— Играет это трубач тревогу… — продолжает баклановец; не слушая деда Гришаку.
— Янычиры ихние навроде атаманцев. Да-с. — Дед Гришака горячится, сердясь, машет
рукой. — Службу при своем царе несут, и на головах у них белые мешки. Ась? Белые мешки
на головах.
— Я и говорю своему полчанину: «Это, Тимоша, отступать будем, тяни ковер со стены,
а мы его в торока…»
— Два егория имею! Награжден за боевые геройства!.. Турецкого майора живьем
заполонил…
Дед Гришака плачет и стучит сухим кулачком по гулкой и медвежковатой спине
деда-баклановца; но тот, макая кусок курятины вместо хрена в вишневый кисель,
безжизненно глядит на скатерть, залитую лапшой, шамшит провалившимся ртом:
— Вот, сынок, на какой грех попутал нечистый… — Глаза деда с мертвой
настойчивостью глядят на белые морщины скатерти, словно видит он не скатерть, залитую