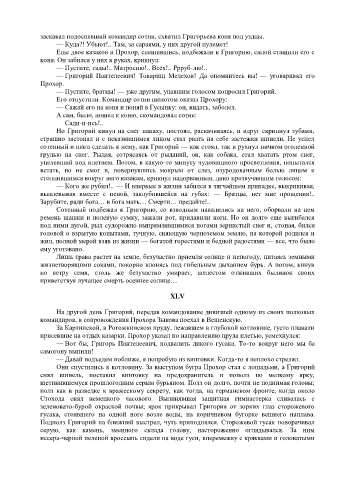Page 556 - Тихий Дон
P. 556
заскакал подоспевший командир сотни, схватил Григорьева коня под уздцы.
— Куда?! Убьют!.. Там, за сараями, у них другой пулемет!
Еще двое казаков и Прохор, спешившись, подбежали к Григорию, силой стащили его с
коня. Он забился у них в руках, крикнул:
— Пустите, гады!.. Матросню!.. Всех!.. Ррруб-лю!..
— Григорий Пантелеевич! Товарищ Мелехов! Да опомнитесь вы! — уговаривал его
Прохор.
— Пустите, братцы! — уже другим, упавшим голосом попросил Григорий.
Его отпустили. Командир сотни шепотом оказал Прохору:
— Сажай его на коня и поняй в Гусынку: он, видать, заболел.
А сам, было, пошел к коню, скомандовал сотне:
— Сади-и-ись!..
Но Григорий кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами,
страшно застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели. Не успел
сотенный и шага сделать к нему, как Григорий — как стоял, так и рухнул ничком оголенной
грудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег,
уцелевший под плетнем. Потом, в какую-то минуту чудовищного просветления, попытался
встать, но не смог и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к
столпившимся вокруг него казакам, крикнул надорванным, дико прозвучавшим голосом:
— Кого же рубил!.. — И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая,
выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: — Братцы, нет мне прощения!..
Зарубите, ради бога… в бога мать… Смерти… предайте!..
Сотенный подбежал к Григорию, со взводным навалились на него, оборвали на нем
ремень шашки и полевую сумку, зажали рот, придавили ноги. Но он долго еще выгибался
под ними дугой, рыл судорожно выпрямлявшимися ногами зернистый снег и, стоная, бился
головой о взрытую копытами, тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и
жил, полной мерой взяв из жизни — богатой горестями и бедной радостями — все, что было
ему уготовано.
Лишь трава растет на земле, безучастно приемля солнце и непогоду, питаясь земными
жизнетворящими соками, покорно клонясь под гибельным дыханием бурь. А потом, кинув
по ветру семя, столь же безучастно умирает, шелестом отживших былинок своих
приветствуя лучащее смерть осеннее солнце…
XLV
На другой день Григорий, передав командование дивизией одному из своих полковых
командиров, в сопровождения Прохора Зыкова поехал в Вешенскую.
За Картинской, в Рогожкинском пруду, лежавшем в глубокой котловине, густо плавали
присевшие на отдых казарки. Прохор указал по направлению пруда плетью, усмехнулся:
— Вот бы, Григорь Пантелеевич, подвалить дикого гусака. То-то вокруг него мы ба
самогону выпили!
— Давай подъедем поближе, я попробую из винтовки. Когда-то я неплохо стрелял.
Они спустились в котловину. За выступом бугра Прохор стал с лошадьми, а Григорий
снял шинель, поставил винтовку на предохранитель и пополз по мелкому ярку,
щетинившемуся прошлогодним серым бурьяном. Полз он долго, почти не поднимая головы;
полз как в разведке к вражескому секрету, как тогда, на германском фронте, когда около
Стохода снял немецкого часового. Вылинявшая защитная гимнастерка сливалась с
зеленовато-бурой окраской почвы; ярок прикрывал Григория от зорких глаз сторожевого
гусака, стоявшего на одной ноге возле воды, на коричневом бугорке вешнего наплава.
Подполз Григорий на ближний выстрел, чуть приподнялся. Сторожевой гусак поворачивал
серую, как камень, змеиного склада голову, настороженно оглядывался. За ним
иссера-черной пеленой вроссыпь сидели на воде гуси, вперемежку с кряквами и головатыми