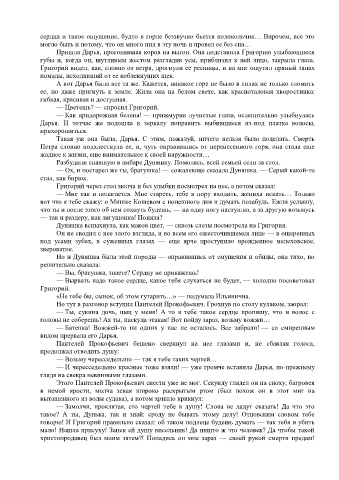Page 665 - Тихий Дон
P. 665
сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучно бьется колокольчик… Впрочем, все это
могло быть и потому, что он много пил в эту ночь и провел ее без сна…
Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся
губы и, когда он, шутливым жестом разгладив усы, приблизил к ней лицо, закрыла глаза.
Григорий видел, как, словно от ветра, дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах
помады, исходивший от ее неблекнущих щек.
А вот Дарья была все та же. Кажется, никакое горе не было в силах не только сломить
ее, но даже пригнуть к земле. Жила она на белом свете, как красноталовая хворостинка:
гибкая, красивая и доступная.
— Цветешь? — спросил Григорий.
— Как придорожная белена! — прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась
Дарья. И тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы,
прихорошиться.
Такая уж она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделать. Смерть
Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще
жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности…
Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку. Помолясь, всей семьей сели за стол.
— Ох, и постарел же ты, братушка! — сожалеюще сказала Дуняшка. — Серый какой-то
стал, как бирюк.
Григорий через стол молча и без улыбки посмотрел на нее, а потом сказал:
— Мне так и полагается. Мне стареть, тебе в пору входить, жениха искать… Только
вот что я тебе скажу: о Мишке Кошевом с нонешного дня и думать позабудь. Ежли услышу,
что ты и после этого об нем сохнуть будешь, — на одну ногу наступлю, а за другую возьмусь
— так и раздеру, как лягушонка! Поняла?
Дуняшка вспыхнула, как маков цвет, — сквозь слезы посмотрела на Григория.
Он не сводил с нее злого взгляда, и во всем его ожесточившемся лице — в ощеренных
под усами зубах, в суженных глазах — еще ярче проступило врожденное мелеховское,
звероватое.
Но и Дуняшка была этой породы — оправившись от смущения и обиды, она тихо, но
решительно сказала:
— Вы, братушка, знаете? Сердцу не прикажешь!
— Вырвать надо такое сердце, какое тебя слухаться не будет, — холодно посоветовал
Григорий.
«Не тебе бы, сынок, об этом гутарить…» — подумала Ильинична.
Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал:
— Ты, сукина дочь, цыц у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и волос с
головы не соберешь! Ах ты, паскуда этакая! Вот пойду зараз, возьму вожжи…
— Батенка! Вожжей-то ни одних у нас не осталось. Все забрали! — со смиренным
видом прервала его Дарья.
Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса,
продолжал отводить душу:
— Возьму чересседельню — так я тебе таких чертей…
— И чересседельню красные тоже взяли! — уже громче вставила Дарья, по-прежнему
глядя на свекра невинными глазами.
Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. Секунду глядел он на сноху, багровея
в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом (был похож он в этот миг на
вытащенного из воды судака), а потом хрипло крикнул:
— Замолчи, проклятая, сто чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это
такое? А ты, Дунька, так и знай: сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе
говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеце будешь думать — так тебя и убить
мало! Нашла присуху! Запек ей душу висельник! Да ништо ж это человек? Да чтобы такой
христопродавец был моим зятем?! Попадись он мне зараз — своей рукой смерти предам!