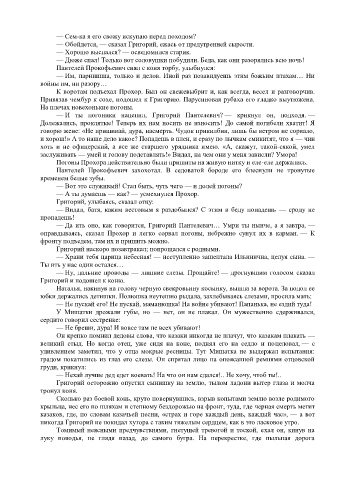Page 669 - Тихий Дон
P. 669
— Сем-ка я его свожу искупаю перед походом?
— Обойдется, — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости.
— Хорошо выспался? — осведомился старик.
— Дюже спал! Только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь!
Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся:
— Им, парнишша, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам… Ни
войны им, ни разору…
К воротам подъехал Прохор. Был он свежевыбрит и, как всегда, весел и разговорчив.
Привязав чембур к сохе, подошел к Григорию. Парусиновая рубаха его гладко выутюжена.
На плечах новехонькие погоны.
— И ты погоники нацепил, Григорий Пантелевич? — крикнул он, подходя. —
Долежались, проклятые! Теперь их нам носить не износить! До самой погибели хватит! Я
говорю жене: «Не пришивай, дура, насмерть. Чудок прикилбни, лишь бы ветром не сорвало,
и хорош!» А то наше дело какое? Попадешь в плен, и сразу по лычкам смикитят, что я — чин
хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. «А, скажут, такой-сякой, умел
заслуживать — умей и голову подставлять!» Видал, на чем они у меня зависли? Умора!
Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались.
Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули не тронутые
временем белые зубы.
— Вот это служивый! Стал быть, чуть чего — и долей погоны?
— А ты думаешь — как? — усмехнулся Прохор.
Григорий, улыбаясь, сказал отцу:
— Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь — сроду не
пропадешь!
— Да ить оно, как говорится, Григорий Пантелевич… Умри ты нынче, а я завтра, —
оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман. — К
фронту подъедем, там их и пришить можно.
Григорий наскоро позавтракал; попрощался с родными.
— Храни тебя царица небесная! — исступленно зашептала Ильинична, целуя сына. —
Ты ить у нас один остался…
— Ну, дальние проводы — лишние слезы. Прощайте! — дрогнувшим голосом сказал
Григорий и подошел к коню.
Наталья, накинув на голову черную свекровьину косынку, вышла за ворота. За подол ее
юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать:
— Не пускай его! Не пускай, маманюшка! На войне убивают! Папанька, не ездий туда!
У Мишатки дрожали губы, но — нет, он не плакал. Он мужественно сдерживался,
сердито говорил сестренке:
— Не бреши, дура! И вовсе там не всех убивают!
Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать —
великий стыд. Но когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал, — с
удивлением заметил, что у отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания:
градом покатились из глаз его слезы. Он спрятал лицо на опоясанной ремнями отцовской
груди, крикнул:
— Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался!.. Не хочу, чтоб ты!..
Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча
тронул коня.
Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого
крыльца, нес его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где черная смерть метит
казаков, где, по словам казачьей песни, «страх и горе каждый день, каждый час», — а вот
никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро.
Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на
луку поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрестке, где пыльная дорога