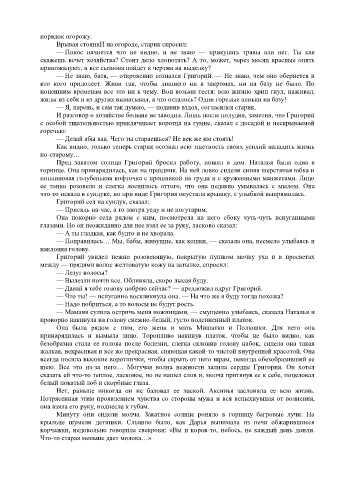Page 667 - Тихий Дон
P. 667
порядок огорожу.
Врывая стоянкИ на огороде, старик спросил:
— Покос начнется что не видно, и не знаю — прикупать травы али нет. Ты как
скажешь всчет хозяйства? Стоит дело хлопотать? А то, может, через месяц красные опять
припожалуют, и все сызнова пойдет к чертям на выделку?
— Не знаю, батя, — откровенно сознался Григорий. — Не знаю, чем оно обернется и
кто кого придолеет. Живи так, чтобы лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По
нонешним временам все это ни к чему. Вон возьми тестя: всю жизню хрип гнул, наживал,
жилы из себя и из других выматывал, а что осталось? Одни горелые пеньки на базу!
— Я, парень, и сам так думаю, — подавив вздох, согласился старик.
И разговор о хозяйстве больше не заводил. Лишь после полудня, заметив, что Григорий
с особой тщательностью приклячивает воротца на гумне, сказал с досадой и нескрываемой
горечью:
— Делай абы как. Чего ты стараешься? Не век же им стоять!
Как видно, только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий наладить жизнь
по-старому…
Пред закатом солнца Григорий бросил работу, пошел в дом. Наталья была одна в
горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синяя шерстяная юбка и
поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди и с кружевными манжетами. Лицо
ее тонко розовело и слегка лоснилось оттого, что она недавно умывалась с мылом. Она
что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крышку, с улыбкой выпрямилась.
Григорий сел на сундук, сказал:
— Присядь на-час, а то завтра уеду и не погутарим.
Она покорно села рядом с ним, посмотрела на него сбоку чуть-чуть испуганными
глазами. Но он неожиданно для нее взял ее за руку, ласково сказал:
— А ты гладкая, как будто и не хворала.
— Поправилась… Мы, бабы, живущие, как кошки, — сказала она, несмело улыбаясь и
наклоняя голову.
Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пушком мочку уха и в просветах
между — прядями волос желтоватую кожу на затылке, спросил:
— Лезут волосы?
— Вылезли почти все. Облиняла, скоро лысая буду.
— Давай я тебе голову побрею сейчас? — предложил вдруг Григорий.
— Что ты! — испуганно воскликнула она. — На что же я буду тогда похожа?
— Надо побриться, а то волосы не будут рость.
— Маманя сулила остричь меня ножницами, — смущенно улыбаясь, сказала Наталья и
проворно накинула на голову снежно-белый, густо подсиненный платок.
Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она
принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как
безобразна стала ее голова после болезни, слегка склонив голову набок, сидела она такая
жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она
всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее
шею. Все это из-за него… Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел
сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув ее к себе, поцеловал
белый покатый лоб и скорбные глаза.
Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья заслоняла ее всю жизнь.
Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения,
она взяла его руку, поднесла к губам.
Минуту они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На
крыльце шумели детишки. Слышно было, как Дарья вынимала из печи обжарившиеся
корчажки, недовольно говорила свекрови: «Вы и коров-то, небось, не каждый день доили.
Что-то старая меньше дает молока…»