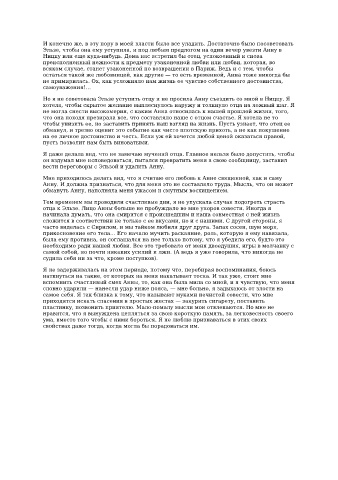Page 47 - Здравствуй грусть
P. 47
И конечно же, в эту пору в моей власти было все уладить. Достаточно было посоветовать
Эльзе, чтобы она ему уступила, и под любым предлогом на один вечер увезти Анну в
Ниццу или еще куда-нибудь. Дома нас встретил бы отец, успокоенный и снова
преисполненный нежности к предмету узаконенной любви или любви, которая, во
всяком случае, станет узаконенной по возвращении в Париж. Ведь и с тем, чтобы
остаться такой же любовницей, как другие — то есть временной, Анна тоже никогда бы
не примирилась. Ох, как усложняло нам жизнь ее чувство собственного достоинства,
самоуважения!…
Но я не советовала Эльзе уступить отцу и не просила Анну съездить со мной в Ниццу. Я
хотела, чтобы скрытое желание выплеснулось наружу и толкнуло отца на ложный шаг. Я
не могла снести высокомерия, с каким Анна относилась к нашей прошлой жизни, того,
что она походя презирала все, что составляло наше с отцом счастье. Я хотела не то
чтобы унизить ее, но заставить принять наш взгляд на жизнь. Пусть узнает, что отец ее
обманул, и трезво оценит это событие как чисто плотскую прихоть, а не как покушение
на ее личное достоинство и честь. Если уж ей хочется любой ценой оказаться правой,
пусть позволит нам быть виноватыми.
Я даже делала вид, что не замечаю мучений отца. Главное нельзя было допустить, чтобы
он вздумал мне исповедоваться, пытался превратить меня в свою сообщницу, заставил
вести переговоры с Эльзой и удалить Анну.
Мне приходилось делать вид, что я считаю его любовь к Анне священной, как и саму
Анну. И должна признаться, что для меня это не составляло труда. Мысль, что он может
обмануть Анну, наполняла меня ужасом и смутным восхищением.
Тем временем мы проводили счастливые дни, я не упускала случая подогреть страсть
отца к Эльзе. Лицо Анны больше не пробуждало во мне укоров совести. Иногда я
начинала думать, что она смирится с происшедшим и наша совместная с ней жизнь
сложится в соответствии не только с ее вкусами, но и с нашими. С другой стороны, я
часто виделась с Сирилом, и мы тайком любили друг друга. Запах сосен, шум моря,
прикосновение его тела… Его начало мучить раскаяние, роль, которую я ему навязала,
была ему противна, он соглашался на нее только потому, что я убедила его, будто это
необходимо ради нашей любви. Все это требовало от меня двоедушия, игры в молчанку с
самой собой, но почти никаких усилий и лжи. (А ведь я уже говорила, что никогда не
судила себя ни за что, кроме поступков).
Я не задерживалась на этом периоде, потому что, перебирая воспоминания, боюсь
наткнуться на такие, от которых на меня накатывает тоска. И так уже, стоит мне
вспомнить счастливый смех Анны, то, как она была мила со мной, и я чувствую, что меня
словно ударили — нанесли удар ниже пояса, — мне больно, я задыхаюсь от злости на
самое себя. Я так близка к тому, что называют муками нечистой совести, что мне
приходится искать спасения в простых жестах — закурить сигарету, поставить
пластинку, позвонить приятелю. Мало-помалу мысли мои отвлекаются. Но мне не
нравится, что я вынуждена цепляться за свою короткую память, за легковесность своего
ума, вместо того чтобы с ними бороться. Я не люблю признаваться в этих своих
свойствах даже тогда, когда могла бы порадоваться им.