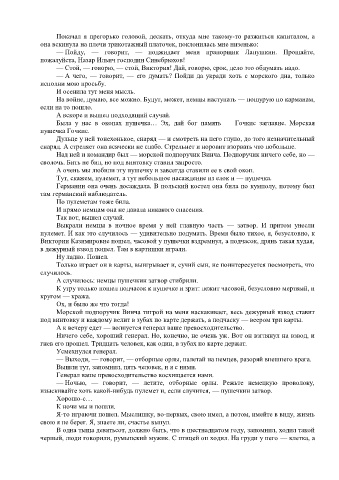Page 25 - Избранное
P. 25
Покачал я прегорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а
она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низенько:
— Пойду, — говорит, — поджидает меня прапорщик Лапушкин. Прощайте,
пожалуйста, Назар Ильич господин Синебрюхов!
— Стой, — говорю, — стой, Виктория! Дай, говорю, срок, дело это обдумать надо.
— А чего, — говорит, — его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только
исполни мою просьбу.
И осенила тут меня мысль.
На войне, думаю, все можно. Будут, может, немцы наступать — пошурую по карманам,
если на то пошло.
А вскоре и вышел подходящий случай.
Была у нас в окопах пушечка… Эх, дай бог память — Гочкис заглавие. Морская
пушечка Гочкис.
Дульце у ней тонехонькое, снаряд — и смотреть на пего глупо, до того незначительный
снаряд. А стреляет она всячески не слабо. Стрельнет и норовит взорвать что побольше.
Над ней и командир был — морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но —
сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.
А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.
Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и — пушечка.
Германии она очень досаждала. В польский костел она била по кумполу, потому был
там германский наблюдатель.
По пулеметам тоже била.
И прямо немцам она не давала никакого спасения.
Так вот, вышел случай.
Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть — затвор. И притом унесли
пулемет. И как это случилось — удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к
Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, дрянь такая худая,
в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.
Ну ладно. Пошел.
Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что
случилось.
А случилось: немцы пушечкин затвор стибрили.
К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой, безусловно мертвый, и
кругом — кража.
Ох, и было же что тогда!
Морской подпоручик Винча тигрой на меня наскакивает, весь дежурный взвод ставит
под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску — веером три карты.
А к вечеру едет — волнуется генерал ваше превосходительство.
Ничего себе, хороший генерал. Но, конечно, не очень уж. Вот он взглянул на взвод, и
гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.
Усмехнулся генерал.
— Выходи, — говорит, — отборные орлы, налетай на немцев, разоряй внешнего врага.
Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.
Генерал ваше превосходительство восхищается нами.
— Ночью, — говорит, — летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку,
изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится, — пушечкин затвор.
Хорошо-с…
К ночи мы и пошли.
Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь
свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.
В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой
черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него — клетка, а