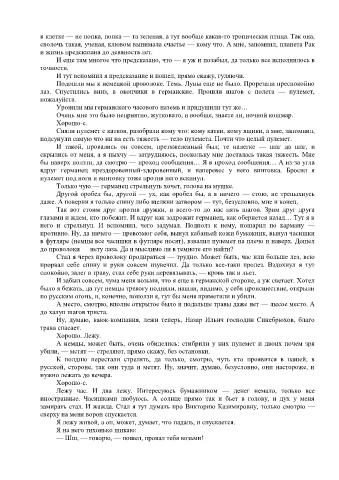Page 26 - Избранное
P. 26
в клетке — не попка, попка — та зеленая, а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она,
сволочь такая, ученая, клювом вынимала счастье — кому что. А мне, запомнил, планета Рак
и жизнь предсказана до девяноста лет.
И еще там многое что предсказано, что — я уж и позабыл, да только все исполнилось в
точности.
И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.
Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно
лаз. Спустились вниз, в окопчики в германские. Прошли шагов с полета — пулемет,
пожалуйста.
Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же…
Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.
Хорошо-с.
Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящики, а мне, запомнил,
подсунули самую что ни на есть тяжесть — тело пулемета. Почти что целый пулемет.
И такой, провались он совсем, претяжеленный был; те налегке — шаг да шаг, и
скрылись от меня, а я пыхчу — затрудняюсь, поскольку мне досталась такая тяжесть. Мне
бы наверх ползти, да смотрю — проход сообщения… Я в проход сообщения… А из-за угла
вдруг германец прездоровенный-здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я
пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.
Только чую — германец стрельнуть хочет, голова на мушке.
Другой оробел бы, другой — ух, как оробел бы, а я ничего — стою, не трепыхнусь
даже. А поверни я только спину либо щелкни затвором — тут, безусловно, мне и конец.
Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга
глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад… Тут я в
него и стрельнул. И вспомнил, чего задумал. Подполз к нему, пошарил по карману —
противно. Ну, да ничего — превозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки
в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел
до проволоки — нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?
Стал я через проволоку продираться — трудно. Может быть, час или больше лез, всю
прорвал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вздохнул я тут
спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать, — кровь так и льет.
И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел
было я бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли
по русским огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня приметили и убили.
А место, смотрю, вполне открытое было и подальше травы даже нет — лысое место. А
до халуп шагов триста.
Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич господин Синебрюхов, благо
трава спасает.
Хорошо. Лежу.
А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря
убили, — мстят — стреляют, прямо скажу, без остановки.
К полдню перестали стрелять, да только, смотрю, чуть кто проявится в нашей, в
русской, стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они настороже, и
нужно лежать до вечера.
Хорошо-с.
Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником — денег немало, только все
иностранные. Часишками любуюсь. А солнце прямо так и бьет в голову, и дух у меня
замирать стал. И жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только смотрю —
сверху на меня ворон спускается.
Я лежу живой, а он, может, думает, что падаль, и спускается.
Я на него тихонько шикаю:
— Шш, — говорю, — пошел, провал тебя возьми!