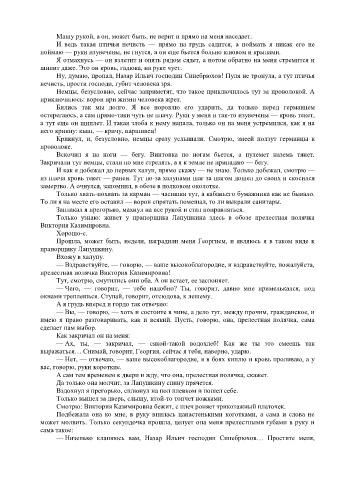Page 27 - Избранное
P. 27
Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня наседает.
И ведь такая птичья нечисть — прямо на грудь садится, а поймать я никак его не
поймаю — руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.
Я отмахнусь — он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и
шипит даже. Это он кровь, гадюка, на руке чует.
Ну, думаю, пропал, Назар Ильич господин Синебрюхов! Пуля не тронула, а тут птичья
нечисть, прости господи, губит человека зря.
Немцы, безусловно, сейчас заприметят, что такое приключилось тут за проволокой. А
приключилось: ворон при жизни человека жрет.
Бились так мы долго. Я все норовлю его ударить, да только перед германцем
остерегаюсь, а сам прямо-таки чуть не плачу. Руки у меня и так-то изувечены — кровь текет,
а тут еще он щиплет. И такая злоба к нему напала, только он на меня устремился, как я на
него крикну: кыш, — кричу, паршивец!
Крикнул, и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю, змеей ползут германцы к
проволоке.
Вскочил я на ноги — бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет наземь тянет.
Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я к земле не припадаю — бегу.
И как я добежал до первых халуп, прямо скажу — не знаю. Только добежал, смотрю —
из плеча кровь текет — ранен. Тут по-за халупами шаг за шагом дошел до своих и скосился
замертво. А очнулся, запомнил, в обозе в полковом околотке.
Только хвать-похвать за карман — часишки тут, а кабаньего бумажника как не бывало.
То ли я на месте его оставил — ворон спрятать помешал, то ли выкрали санитары.
Заплакал я прегорько, махнул на все рукой и стал поправляться.
Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка
Виктория Казимировна.
Хорошо-с.
Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием, и являюсь я в таком виде к
прапорщику Лапушкину.
Вхожу в халупу.
— Вздравствуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие, и вздравствуйте, пожалуйста,
прелестная полячка Виктория Казимировна!
Тут, смотрю, смутились они оба. А он встает, ее заслоняет.
— Чего, — говорит, — тебе надобно? Ты, говорит, давно мне примелькался, под
окнами треплешься. Ступай, говорит, отсюдова, к лешему.
А я грудь вперед и гордо так отвечаю:
— Вы, — говорю, — хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское, и
имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, говорю, она, прелестная полячка, сама
сделает нам выбор.
Как закричал он на меня:
— Ах, ты, — закричал, — сякой-такой водохлеб! Как же ты это смеешь так
выражаться… Снимай, говорит, Георгия, сейчас я тебя, наверно, ударю.
— Нет, — отвечаю, — ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у
вас, говорю, руки короткие.
А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.
Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.
Вздохнул я прегорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе.
Только вышел за дверь, слышу, ктой-то топчет ножками.
Смотрю: Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трикотажный платочек.
Подбежала она ко мне, в руку впилась цапастенькими коготками, а сама и слова не
может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку и
сама такое:
— Низенько кланяюсь вам, Назар Ильич господин Синебрюхов… Простите меня,