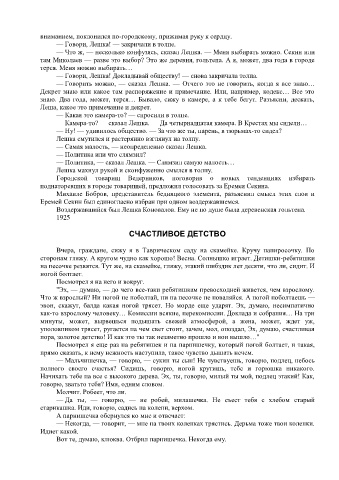Page 76 - Избранное
P. 76
вниманием, поклонился по-городскому, прижимая руку к сердцу.
— Говори, Лешка! — закричали в толпе.
— Что ж, — несколько конфузясь, сказал Лешка. — Меня выбирать можно. Секин или
там Миколаев — разве это выбор? Это же деревня, гольтепа. А я, может, два года в городе
терся. Меня можно выбирать…
— Говори, Лешка! Докладывай обществу! — снова закричала толпа.
— Говорить можно, — сказал Лешка. — Отчего это не говорить, когда я все знаю…
Декрет знаю или какое там распоряжение и примечание. Или, например, кодекс… Все это
знаю. Два года, может, терся… Бывало, сижу в камере, а к тебе бегут. Разъясни, дескать,
Леша, какое это примечание и декрет.
— Какая это камера-то? — спросили в толпе.
— Камера-то? — сказал Лешка. — Да четырнадцатая камера. В Крестах мы сидели…
— Ну! — удивилось общество. — За что же ты, парень, в тюрьмах-то сидел?
Лешка смутился и растерянно взглянул на толпу.
— Самая малость, — неопределенно сказал Лешка.
— Политика или что слямзил?
— Политика, — сказал Лешка. — Слямзил самую малость…
Лешка махнул рукой и сконфуженно смылся в толпу.
Городской товарищ Ведерников, поговорив о новых тенденциях избирать
поднаторевших в городе товарищей, предложил голосовать за Еремея Секина.
Михаиле Бобров, представитель бедняцкого элемента, разъяснил смысл этих слов и
Еремей Секин был единогласно избран при одном воздержавшемся.
Воздержавшийся был Лешка Коновалов. Ему не по душе была деревенская гольтепа.
1925
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Вчера, граждане, сижу я в Таврическом саду на скамейке. Кручу папиросочку. По
сторонам гляжу. А кругом чудно как хорошо! Весна. Солнышко играет. Детишки-ребятишки
на песочке резвятся. Тут же, на скамейке, гляжу, этакий шибздик лет десяти, что ли, сидит. И
ногой болтает.
Посмотрел я на него и вокруг.
"Эх, — думаю, — до чего все-таки ребятишкам превосходней живется, чем взрослому.
Что ж взрослый? Ни ногой не поболтай, ни на песочке не поваляйся. А ногой поболтаешь —
эвон, скажут, балда какая ногой трясет. Но морде еще ударят. Эх, думаю, несимпатично
как-то взрослому человеку… Комиссии всякие, перекомиссии. Доклада и собрания… На три
минуты, может, вырвешься подышать свежей атмосферой, а жена, может, ждет уж,
уполовником трясет, ругается на чем свет стоит, зачем, мол, опоздал, Эх, думаю, счастливая
пора, золотое детство! И как это ты так незаметно прошло и вон вышло…"
Посмотрел я еще раз на ребятишек и на парнишечку, который ногой болтает, и такая,
прямо сказать, к нему нежность наступила, такое чувство дышать нечем.
— Мальчишечка, — говорю, — сукин ты сын! Не чувствуешь, говорю, подлец, небось
полного своего счастья? Сидишь, говорю, ногой крутишь, тебе и горюшка никакого.
Начихать тебе на все с высокого дерева. Эх, ты, говорю, милый ты мой, подлец этакий! Как,
говорю, зватьто тебя? Имя, одним словом.
Молчит. Робеет, что ли.
— Да ты, — говорю, — не робей, милашечка. Не съест тебя с хлебом старый
старикашка. Иди, говорю, садись на колени, верхом.
А парнишечка обернулся ко мне и отвечает:
— Некогда, — говорит, — мне на твоих коленках трястись. Дерьма тоже твои коленки.
Идиет какой.
Вот те, думаю, клюква. Отбрил парнишечка. Некогда ему.