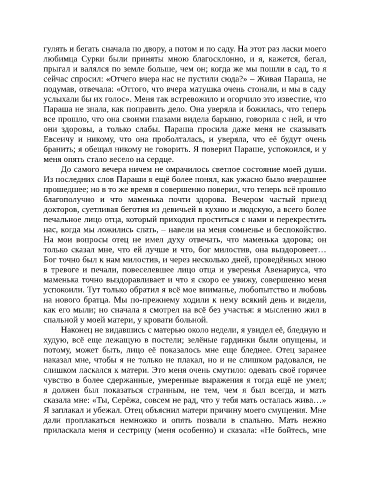Page 130 - «Детские годы Багрова-внука»
P. 130
гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. На этот раз ласки моего
любимца Сурки были приняты мною благосклонно, и я, кажется, бегал,
прыгал и валялся по земле больше, чем он; когда же мы пошли в сад, то я
сейчас спросил: «Отчего вчера нас не пустили сюда?» – Живая Параша, не
подумав, отвечала: «Оттого, что вчера матушка очень стонали, и мы в саду
услыхали бы их голос». Меня так встревожило и огорчило это известие, что
Параша не знала, как поправить дело. Она уверяла и божилась, что теперь
все прошло, что она своими глазами видела барыню, говорила с ней, и что
они здоровы, а только слабы. Параша просила даже меня не сказывать
Евсеичу и никому, что она проболталась, и уверяла, что её будут очень
бранить; я обещал никому не говорить. Я поверил Параше, успокоился, и у
меня опять стало весело на сердце.
До самого вечера ничем не омрачилось светлое состояние моей души.
Из последних слов Параши я ещё более понял, как ужасно было вчерашнее
прошедшее; но в то же время я совершенно поверил, что теперь всё прошло
благополучно и что маменька почти здорова. Вечером частый приезд
докторов, суетливая беготня из девичьей в кухню и людскую, а всего более
печальное лицо отца, который приходил проститься с нами и перекрестить
нас, когда мы ложились спать, – навели на меня сомненье и беспокойство.
На мои вопросы отец не имел духу отвечать, что маменька здорова; он
только сказал мне, что ей лучше и что, бог милостив, она выздоровеет…
Бог точно был к нам милостив, и через несколько дней, проведённых мною
в тревоге и печали, повеселевшее лицо отца и уверенья Авенариуса, что
маменька точно выздоравливает и что я скоро ее увижу, совершенно меня
успокоили. Тут только обратил я всё мое вниманье, любопытство и любовь
на нового братца. Мы по-прежнему ходили к нему всякий день и видели,
как его мыли; но сначала я смотрел на всё без участья: я мысленно жил в
спальной у моей матери, у кровати больной.
Наконец не видавшись с матерью около недели, я увидел её, бледную и
худую, всё еще лежащую в постели; зелёные гардинки были опущены, и
потому, может быть, лицо её показалось мне еще бледнее. Отец заранее
наказал мне, чтобы я не только не плакал, но и не слишком радовался, не
слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило: одевать своё горячее
чувство в более сдержанные, умеренные выражения я тогда ещё не умел;
я должен был показаться странным, не тем, чем я был всегда, и мать
сказала мне: «Ты, Серёжа, совсем не рад, что у тебя мать осталась жива…»
Я заплакал и убежал. Отец объяснил матери причину моего смущения. Мне
дали проплакаться немножко и опять позвали в спальню. Мать нежно
приласкала меня и сестрицу (меня особенно) и сказала: «Не бойтесь, мне