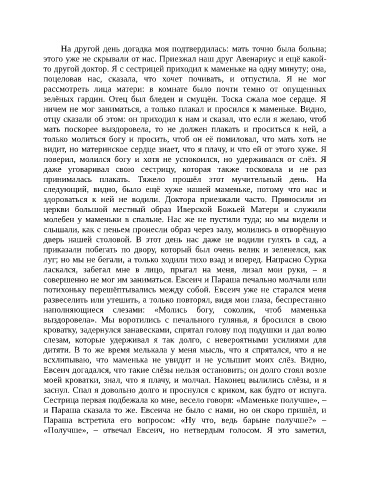Page 127 - «Детские годы Багрова-внука»
P. 127
На другой день догадка моя подтвердилась: мать точно была больна;
этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авенариус и ещё какой-
то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту; она,
поцеловав нас, сказала, что хочет почивать, и отпустила. Я не мог
рассмотреть лица матери: в комнате было почти темно от опущенных
зелёных гардин. Отец был бледен и смущён. Тоска сжала мое сердце. Я
ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке. Видно,
отцу сказали об этом: он приходил к нам и сказал, что если я желаю, чтоб
мать поскорее выздоровела, то не должен плакать и проситься к ней, а
только молиться богу и просить, чтоб он её помиловал, что мать хоть не
видит, но материнское сердце знает, что я плачу, и что ей от этого хуже. Я
поверил, молился богу и хотя не успокоился, но удерживался от слёз. Я
даже уговаривал свою сестрицу, которая также тосковала и не раз
принималась плакать. Тяжело прошёл этот мучительный день. На
следующий, видно, было ещё хуже нашей маменьке, потому что нас и
здороваться к ней не водили. Доктора приезжали часто. Приносили из
церкви большой местный образ Иверской Божьей Матери и служили
молебен у маменьки в спальне. Нас же не пустили туда; но мы видели и
слышали, как с пеньем пронесли образ через залу, молились в отворённую
дверь нашей столовой. В этот день нас даже не водили гулять в сад, а
приказали побегать по двору, который был очень велик и зеленелся, как
луг; но мы не бегали, а только ходили тихо взад и вперед. Напрасно Сурка
ласкался, забегал мне в лицо, прыгал на меня, лизал мои руки, – я
совершенно не мог им заниматься. Евсеич и Параша печально молчали или
потихоньку перешёптывались между собой. Евсеич уже не старался меня
развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно
наполняющиеся слезами: «Молись богу, соколик, чтоб маменька
выздоровела». Мы воротились с печального гулянья, я бросился в свою
кроватку, задернулся занавесками, спрятал голову под подушки и дал волю
слезам, которые удерживал я так долго, с невероятными усилиями для
дитяти. В то же время мелькала у меня мысль, что я спрятался, что я не
всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слёз. Видно,
Евсеич догадался, что такие слёзы нельзя остановить; он долго стоял возле
моей кроватки, знал, что я плачу, и молчал. Наконец вылились слёзы, и я
заснул. Спал я довольно долго и проснулся с криком, как будто от испуга.
Сестрица первая подбежала ко мне, весело говоря: «Маменьке получше», –
и Параша сказала то же. Евсеича не было с нами, но он скоро пришёл, и
Параша встретила его вопросом: «Ну что, ведь барыне получше?» –
«Получше», – отвечал Евсеич, но нетвердым голосом. Я это заметил,