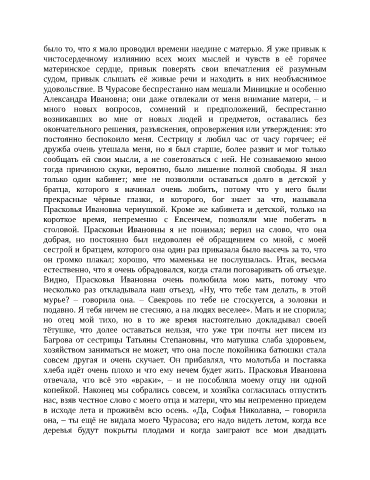Page 169 - «Детские годы Багрова-внука»
P. 169
было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык к
чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в её горячее
материнское сердце, привык поверять свои впечатления её разумным
судом, привык слышать её живые речи и находить в них необъяснимое
удовольствие. В Чурасове беспрестанно нам мешали Миницкие и особенно
Александра Ивановна; они даже отвлекали от меня внимание матери, – и
много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно
возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без
окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения: это
постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее; её
дружба очень утешала меня, но я был старше, более развит и мог только
сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Не сознаваемою мною
тогда причиною скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал
только один кабинет; мне не позволяли оставаться долго в детской у
братца, которого я начинал очень любить, потому что у него были
прекрасные чёрные глазки, и которого, бог знает за что, называла
Прасковья Ивановна чернушкой. Кроме же кабинета и детской, только на
короткое время, непременно с Евсеичем, позволяли мне побегать в
столовой. Прасковьи Ивановны я не понимал; верил на слово, что она
добрая, но постоянно был недоволен её обращением со мной, с моей
сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что
он громко плакал; хорошо, что маменька не послушалась. Итак, весьма
естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде.
Видно, Прасковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что
несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну, что тебе там делать, в этой
мурье? – говорила она. – Свекровь по тебе не стоскуется, а золовки и
подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее». Мать и не спорила;
но отец мой тихо, но в то же время настоятельно докладывал своей
тётушке, что долее оставаться нельзя, что уже три почты нет писем из
Багрова от сестрицы Татьяны Степановны, что матушка слаба здоровьем,
хозяйством заниматься не может, что она после покойника батюшки стала
совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молотьба и поставка
хлеба идёт очень плохо и что ему нечем будет жить. Прасковья Ивановна
отвечала, что всё это «враки», – и не пособляла моему отцу ни одной
копейкой. Наконец мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить
нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем
в исходе лета и проживём всю осень. «Да, Софья Николавна, – говорила
она, – ты ещё не видала моего Чурасова; его надо видеть летом, когда все
деревья будут покрыты плодами и когда заиграют все мои двадцать