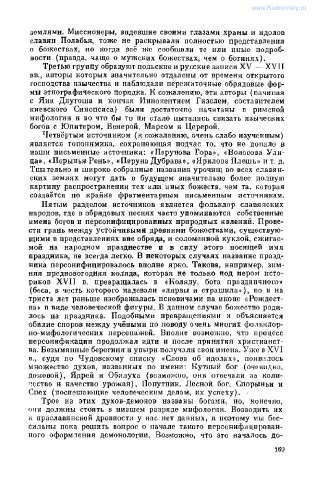Page 167 - Мифы древних славян
P. 167
www.RodnoVery.ru
землями. Миссионеры, видевшие своими глазами храмы и идолов
славян Полабья, тоже не раскрывали полностью представления
о божествах, но когда всё же сообщали те или иные подроб
ности (правда, чаще о мужских божествах, чем о богинях).
Третью группу образуют польские и русские записи XV — XVII
вв., авторы которых значительно отдалены от времени открытого
господства язычества и наблюдали пережиточные обрядовые фор
мы этнографического порядка. К сожалению, эти авторы (начиная
с Яна Длугоша и кончая Иннокентием Гизелем, составителем
киевского Синопсиса) были достаточно начитаны в римской
мифологии и во что бы то ни стало пытались связать языческих
богов с Юпитером, Венерой, Марсом и Церерой.
Четвёртым источником (к сожалению, очень слабо изученным)
является топонимика, сохраняющая подчас то, что не попало в
наши письменные источники: «Перунова Гора», «Волосова Ули
ца», «Перынья Рень», «Перуна Дубрава», «Ярилова Плешь» и т. д.
Тщательно и широко собранные названия урочищ во всех славян
ских землях могут дать в будущем значительно более полную
картину распространения тех или иных божеств, чем та, которая
создаётся по крайне фрагментарным письменным источникам.
Пятым разделом источников является фольклор славянских
народов, где в обрядовых песнях часто упоминаются собственные
имена богов и персонифицированных природных явлений. Прове
сти грань между устойчивыми древними божествами, существую
щими в представлениях вне обряда, и соломенной куклой, сжигае
мой на народном празднестве и в силу этого носящей имя
праздника, не всегда легко. В некоторых случаях название празд
ника персонифицировалось вполне ярко. Такова, например, зим
няя предновогодняя коляда, которая не только под пером исто
риков XVII в. превращалась в «Коляду, бога праздничного»
(беса, в честь которого надевали «лярвы и страшила»), но и на
триста лет раньше изображалась псковичами на иконе «Рождест
ва» в виде человеческой фигуры. В данном случае божество роди
лось из праздника. Подобными превращениями и объясняется
обилие споров между учёными по поводу очень многих фольклор
но-мифологических персонажей. Вполне возможно, что процесс
персонификации продолжал идти и после принятия христианст
ва. Безымянные берегини и упыри получали свои имена. Уже в XVI
в., судя по Чудовскому списку «Слова об идолах», появилось
множество духов, названных по имени: Кутный бог (очевидно,
домовой), Ядрей и Обилуха (возможно, они отвечали за коли
чество и качество урожая), Попутник, Лесной бог, Спорыньи и
Спех (поспешающие человеческим делам, их успеху).
Трое из этих духов-демонов названы богами, но, конечно,
они должны стоять в низшем разряде мифологии. Возводить их
к праславянской древности у нас нет данных, и поэтому мы бес
сильны пока решить вопрос о начале такого персонифицирован
ного оформления демонологии. Возможно, что это началось до
169