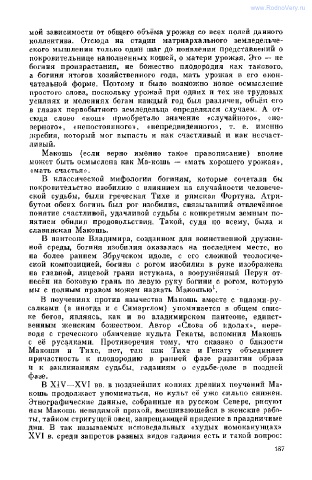Page 185 - Мифы древних славян
P. 185
www.RodnoVery.ru
мой зависимости от общего объёма урожая со всех полей данного
коллектива. Отсюда на стадии матриархального земледельче
ского мышления только один шаг до появления представлений о
покровительнице наполненных кошей, о матери урожая. Это — не
богиня произрастания, не божество плодородия как такового,
а богиня итогов хозяйственного года, мать урожая в его окон
чательной форме. Поэтому и было возможно новое осмысление
простого слова, поскольку урожай при одних и тех же трудовых
усилиях и молениях богам каждый год был различен, объём его
в глазах первобытного земледельца определялся случаем. А от
сюда слово «кош» приобретало значение «случайного», «не
верного», «непостоянного», «непредвиденного», т. е. именно
жребия, который мог выпасть и как счастливый и как несчаст
ливый.
Макошь (если верно именно такое правописание) вполне
может быть осмыслена как Ма-кошь — «мать хорошего урожая»,
«мать счастья».
В классической мифологии богиням, которые сочетали бы
покровительство изобилию с влиянием на случайности человече
ской судьбы, были греческая Тихе и римская Фортуна. Атри
бутом обеих богинь был рог изобилия, связывавший отвлечённое
понятие счастливой, удачливой судьбы с конкретным земным по
нятием обилия продовольствия. Такой, судя по всему, была и
славянская Макошь.
В пантеоне Владимира, созданном для воинственной дружин
ной среды, богиня изобилия оказалась на последнем месте, но
на более раннем Збручском идоле, с его сложной теологиче
ской композицией, богиня с рогом изобилия в руке изображена
на главной, лицевой грани истукана, а вооружённый Перун от
несён на боковую грань по левую руку богини с рогом, которую
мы с полным правом можем назвать Макошью1.
В поучениях против язычества Макошь вместе с вилами-ру
салками (а иногда и с Симарглом) упоминается в общем спис
ке богов, являясь, как и во владимирском пантеоне, единст
венным женским божеством. Автор «Слова об идолах», пере
водя с греческого обличение культа Гекаты, вспомнил Макошь
с её русалками. Противоречия тому, что сказано о близости
Макоши и Тихе, нет, так как Тихе и Гекату объединяет
причастность к плодородию в ранней фазе развития образа
и к заклинаниям судьбы, гаданиям о судьбе-доле в поздней
фазе.
В XIV—XVI вв. в позднейших копиях древних поучений Ма
кошь продолжает упоминаться, но культ её уже сильно снижен.
Этнографические данные, собранные на русском Севере, рисуют
нам Макошь невидимой пряхой, вмешивающейся в женские рабо
ты, тайком стригущей овец, запрещающей прядение в праздничные
дни. В так называемых исповедальных «худых номоканунцах»
XVI в. среди запретов разных видов гадания есть и такой вопрос:
187