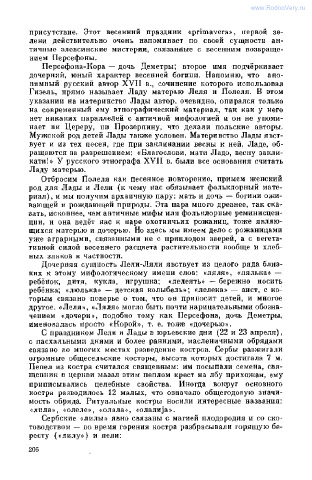Page 204 - Мифы древних славян
P. 204
www.RodnoVery.ru
присутствие. Этот весенний праздник «primavera», первой зе
лени действительно очень напоминает по своей сущности ан
тичные элевсинские мистерии, связанные с весенним возвраще
нием Персефоны.
Персефона-Кора — дочь Деметры; второе имя подчёркивает
дочерний, юный характер весенней богини. Напомню, что ано
нимный русский автор XVII в., сочинение которого использовал
Гизель, прямо называет Ладу матерью Леля и Полеля. В этом
указании на материнство Лады автор, очевидно, опирался только
на современный ему этнографический материал, так как у него
нет никаких параллелей с античной мифологией и он не упоми
нает ни Цереру, ни Прозерпину, что делали польские авторы.
Мужской род детей Лады также условен. Материнство Лады явст
вует и из тех песен, где при заклинании весны к ней, Ладе, об
ращаются за разрешением: «Благослови, мати Ладо, весну закли-
кати!» У русского этнографа XVII в. были все основания считать
Ладу матерью.
Отбросим Полеля как песенное повторение, примем женский
род для Лады и Лели (к чему нас обязывает фольклорный мате
риал), и мы получим архаичную пару: мать и дочь — богини ожи
вающей и рождающей природы. Эта пара много древнее, так ска
зать, исконнее, чем античные мифы или фольклорные реминисцен
ции, и она ведёт нас к паре охотничьих рожаниц, тоже являю
щихся матерью и дочерью. Но здесь мы имеем дело с рожаницами
уже аграрными, связанными не с приплодом зверей, а с вегета
тивной силой весеннего расцвета растительности вообще и хлеб
ных злаков в частности.
Дочерняя сущность Лели-Ляли явствует из целого ряда близ
ких к этому мифологическому имени слов: «ляля», «лялька» —
ребёнок, дитя, кукла, игрушка; «лелеять» — бережно носить
ребёнка; «люлька» —■детская колыбель»; «лелека» — аист, с ко
торым связано поверье о том, что он приносит детей, и многое
другое. «Леля», «Ляля» могло быть почти нарицательными обозна
чением «дочери», подобно тому как Персефона, дочь Деметры,
именовалась просто «Корой», т. е. тоже «дочерью».
С праздником Лели и Лады в юрьевские дни (22 и 23 апреля),
с пасхальными днями и более ранними, масленичными обрядами
связано во многих местах разведение костров. Сербы разжигали
огромные общесельские косторы, высота которых достигала 7 м.
Пепел из костра считался священным: им посыпали семена, свя
щенник в церкви мазал этим пеплом крест на лбу прихожан, ему
приписывались целебные свойства. Иногда вокруг основного
костра разводилось 12 малых, что означало общегодовую значи
мость обряда. Ритуальные костры носили интересные названия:
«лила», «олеле», «олала», «олали^а».
Сербские «лилы» явно связаны с магией плодородия и со ско
товодством — во время горения костра разбрасывали горящую бе
ресту («лилу») и пели:
206