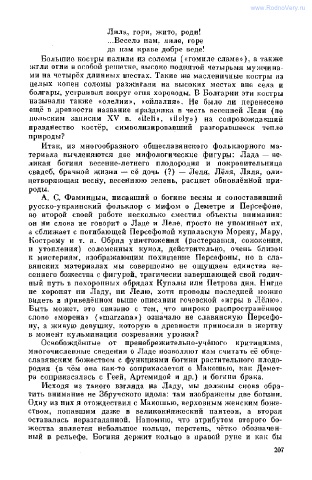Page 205 - Мифы древних славян
P. 205
www.RodnoVery.ru
Лила, гори, жито, роди!
...Весело нам, лиле, горе
да нам нраве добре веде!
Большие костры палили из соломы («гомиле сламе»), а также
жгли огни в особой решетке, высоко поднятой четырьмя мужчина
ми на четырёх длинных шестах. Такие же масленичные костры из
целых копен соломы разжигали на высоких местах вне села и
болгары, устраивая вокруг огня хороводы. В Болгарии эти костры
называли также «олелии», «ойлалия». Не было ли перенесено
ещё в древности название праздника в честь весенней Лели (по
польским записям XV в. «ileli», «ilely») на сопровождавший
празднество костёр, символизировавший разгоравшееся тепло
природы?
Итак, из многообразного общеславянского фольклорного ма
териала вычленяются две мифологические фигуры: Лада — ве
ликая богиня весенне-летнего плодородия и покровительница
свадеб, брачной жизни — её дочь (?) — Леля, Лёля, Ляля, оли
цетворяющая весну, весеннюю зелень, расцвет обновлённой при
роды.
А. С. Фаминцын, писавший о богине весны и сопоставивший
русско-украинский фольклор с мифом о Деметре и Персефоне,
во второй своей работе несколько сместил объекты внимания:
он ни слова не говорит о Ладе и Леле, просто не упоминает их,
а сближает с погибающей Персефоной купальскую Морену, Мару,
Кострому и т. п. Обряд уничтожения (растерзания, сожжения,
и утопления) соломенных кукол, действительно, очень близок
к мистериям, изображающим похищение Персефоны, но в сла
вянских материалах мы совершенно не ощущаем единства ве
сеннего божества с фигурой, трагически завершающей свой годич
ный путь в похоронных обрядах Купалы или Петрова дня. Нигде
не хоронят ни Ладу, ни Лелю, хотя проводы последней можно
видеть в приведённом выше описании гочевской «игры в Лёлю».
Быть может, это связано с тем, что широко распространённое
слово «морена» («marzana») означало не славянскую Персефо-
ну, а живую девушку, которую в древности приносили в жертву
в момент кульминации созревания урожая?
Освобождённые от пренебрежительно-учёного критицизма,
многочисленные сведения о Ладе позволяют нам считать её обще
славянским божеством с функциями богини растительного плодо
родия (в чём она как-то соприкасается с Макошыо, как Демет
ра соприкасалась с Геей, Артемидой и др.) и богини брака.
Исходя из такого взгляда на Ладу, мы должны снова обра
тить внимание не Збручского идола: там изображены две богшш.
Одну из них я отождествил с Макошью, верховным женским боже
ством, попавшим даже в великокняжеский пантеон, а вторая
оставалась неразгаданной. Напомню, что атрибутом второго бо
жества является небольшое кольцо, перстень, чётко обозначен
ный в рельефе. Богиня держит кольцо в правой руке и как бы
207