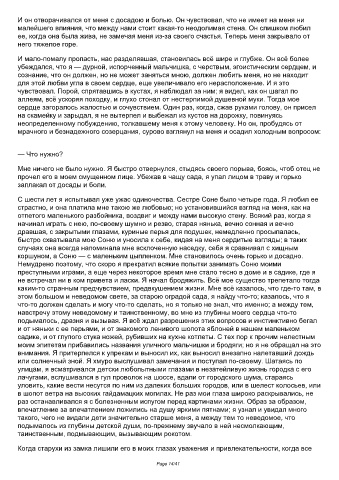Page 14 - В дурном обществе
P. 14
И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни
малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком любил
ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от
него тяжелое горе.
И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась всё шире и глубже. Он всё более
убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и
сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит
для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это
чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по
аллеям, всё ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое
сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел
на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь
неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от
мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:
— Что нужно?
Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не
прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько
заплакал от досады и боли.
С шести лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было четыре года. Я любил ее
страстно, и она платила мне такою же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на
отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я
начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно
дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась,
быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких
случаях она всегда напоминала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным
коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно.
Немудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими
преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я
не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Всё мое существо трепетало тогда
каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне всё казалось, что где-то там, в
этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я
что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем,
навстречу этому неведомому и таинственному, во мне из глубины моего сердца что-то
подымалось, дразня и вызывая. Я всё ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бегал
и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шопота яблоней в нашем маленьком
садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным
моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это
внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь
или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по
улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его
лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь
уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или
в шопот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не
раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом,
впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидал много
такого, чего не видали дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что
подымалось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим,
таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом.
Когда старухи из замка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все
Page 14/41