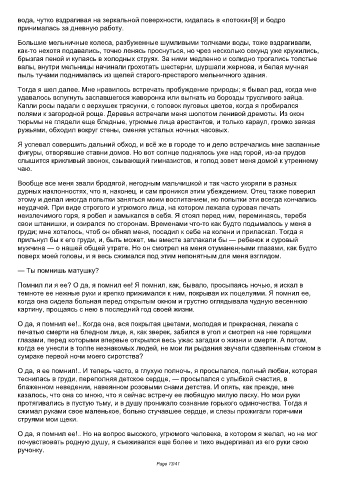Page 13 - В дурном обществе
P. 13
вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лотоки»[9] и бодро
принималась за дневную работу.
Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали,
как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но чрез несколько секунд уже кружились,
брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые
валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная
пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.
Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне
удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца.
Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался
полями к загородной роще. Деревья встречали меня шопотом ленивой дремоты. Из окон
тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая
ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.
Я успевал совершить дальний обход, и всё же в городе то и дело встречались мне заспанные
фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов
слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему
чаю.
Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных
дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил
этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались
неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать
неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя
свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в
груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я
прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребенок и суровый
мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто
поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.
— Ты помнишь матушку?
Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в
темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее,
когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю
картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.
О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с
печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими
глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом,
когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в
сумраке первой ночи моего сиротства?
О да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая
теснилась в груди, переполняя детское сердце, — просыпался с улыбкой счастия, в
блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне
казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую милую ласку. Но мои руки
протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я
сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими
струями мои щеки.
О да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог
почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою
ручонку.
Page 13/41