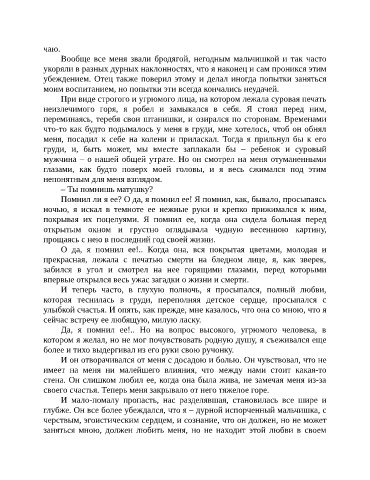Page 12 - Дети подземелья
P. 12
чаю.
Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто
укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим
убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться
моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей.
При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать
неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним,
переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами
что-то как будто подымалось у меня в груди, мне хотелось, чтоб он обнял
меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его
груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы – ребенок и суровый
мужчина – о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными
глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим
непонятным для меня взглядом.
– Ты помнишь матушку?
Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь
ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним,
покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед
открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину,
прощаясь с нею в последний год своей жизни.
О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и
прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек,
забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми
впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти.
И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви,
которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с
улыбкой счастья. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я
сейчас встречу ее любящую, милую ласку.
Да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в
котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще
более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.
И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не
имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то
стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за
своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.
И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и
глубже. Он все более убеждался, что я – дурной испорченный мальчишка, с
черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он должен, но не может
заняться мною, должен любить меня, но не находит этой любви в своем