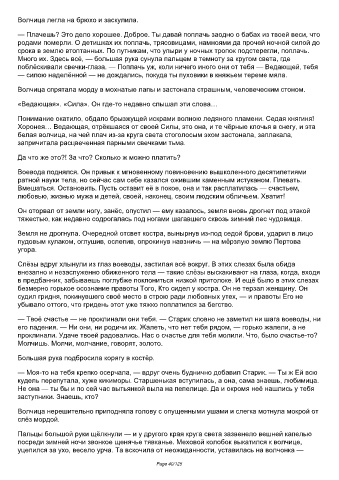Page 40 - Евпатий Коловрат
P. 40
Волчица легла на брюхо и заскулила.
— Плачешь? Это дело хорошее. Доброе. Ты давай поплачь заодно о бабах из твоей веси, что
родами померли. О детишках их поплачь, трясовицами, намноями да прочей ночной силой до
срока в землю втоптанных. По путникам, что упыри у ночных тропок подстерегли, поплачь.
Много их. Здесь всё, — большая рука сунула пальцем в темноту за кругом света, где
поблёскивали свечки-глаза. — Поплачь уж, коли ничего иного они от тебя — Ведающей, тебя
— силою наделённой — не дождались, покуда ты пуховики в княжьем тереме мяла.
Волчица спрятала морду в мохнатые лапы и застонала страшным, человеческим стоном.
«Ведающая». «Сила». Он где-то недавно слышал эти слова…
Понимание окатило, обдало брызжущей искрами волною ледяного пламени. Седая княгиня!
Хоронея… Ведающая, отрёкшаяся от своей Силы, это она, и те чёрные клочья в снегу, и эта
белая волчица, на чей плач из-за круга света стоголосым эхом застонала, заплакала,
запричитала расцвеченная парными свечками тьма.
Да что же это?! За что? Сколько ж можно платить?
Воевода поднялся. Он привык к мгновенному повиновению вышколенного десятилетиями
ратной науки тела, но сейчас сам себе казался ожившим каменным истуканом. Плевать.
Вмешаться. Остановить. Пусть оставит её в покое, она и так расплатилась — счастьем,
любовью, жизнью мужа и детей, своей, наконец, своим людским обличьем. Хватит!
Он оторвал от земли ногу, занёс, опустил — ему казалось, земля вновь дрогнет под этакой
тяжестью, как недавно содрогалась под ногами шагавшего сквозь зимний лес чудовища.
Земля не дрогнула. Очередной отсвет костра, вынырнув из-под седой брови, ударил в лицо
пудовым кулаком, оглушив, ослепив, опрокинув навзничь — на мёрзлую землю Пертова
угора.
Слёзы вдруг хлынули из глаз воеводы, застилая всё вокруг. В этих слезах была обида
внезапно и незаслуженно обиженного тела — такие слёзы выскакивают на глаза, когда, входя
в предбанник, забываешь поглубже поклониться низкой притолоке. И ещё было в этих слезах
безмерно горькое осознание правоты Того, Кто сидел у костра. Он не терзал женщину. Он
судил гридня, покинувшего своё место в строю ради любовных утех, — и правоты Его не
убывало оттого, что гридень этот уже тяжко поплатился за бегство.
— Твоё счастье — не проклинали они тебя. — Старик словно не заметил ни шага воеводы, ни
его падения. — Ни они, ни родичи их. Жалеть, что нет тебя рядом, — горько жалели, а не
проклинали. Удаче твоей радовались. Нас о счастье для тебя молили. Что, было счастье-то?
Молчишь. Молчи, молчание, говорят, золото.
Большая рука подбросила корягу в костёр.
— Моя-то на тебя крепко осерчала, — вдруг очень буднично добавил Старик. — Ты ж Ей всю
кудель перепутала, хуже кикиморы. Старшенькая вступилась, а она, сама знаешь, любимица.
Не она — ты бы и по сей час вытьянкой выла на пепелище. Да и окромя неё нашлись у тебя
заступники. Знаешь, кто?
Волчица нерешительно приподняла голову с опущенными ушами и слегка мотнула мокрой от
слёз мордой.
Пальцы большой руки щёлкнули — и у другого края круга света зазвенело вешней капелью
посреди зимней ночи звонкое щенячье тявканье. Меховой колобок выкатился к волчице,
уцепился за ухо, весело урча. Та вскочила от неожиданности, уставилась на волчонка —
Page 40/125