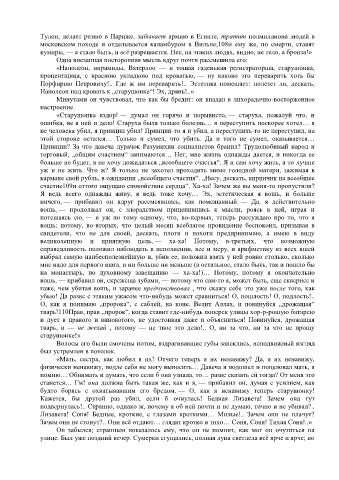Page 142 - Преступление и наказание
P. 142
Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в
московском походе и отделывается каламбуром в Вильне;108и ему же, по смерти, ставят
кумиры, — а стало быть, и всё разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!»
Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его:
«Наполеон, пирамиды, Ватерлоо — и тощая гаденькая регистраторша, старушонка,
процентщица, с красною укладкою под кроватью, — ну каково это переварить хоть бы
Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: полезет ли, дескать,
Наполеон под кровать к „старушонке“! Эх, дрянь!..»
Минутами он чувствовал, что как бы бредит: он впадал в лихорадочно-восторженное
настроение.
«Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто, — старуха, пожалуй что, и
ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь… я переступить поскорее хотел… я
не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на
этой стороне остался… Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается…
Принцип? За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудолюбивый народ и
торговый, „общим счастием“ занимаются… Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее
больше не будет, я не хочу дожидаться „всеобщего счастья“. Я и сам хочу жить, а то лучше
уж и не жить. Что ж? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в
кармане свой рубль, в ожидании „всеобщего счастия“. „Несу, дескать, кирпичик на всеобщее
счастие109и оттого ощущаю спокойствие сердца“. Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили?
Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу… Эх, эстетическая я вошь, и больше
ничего, — прибавил он вдруг рассмеявшись, как помешанный. — Да, я действительно
вошь, — продолжал он, с злорадством прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и
потешаясь ею, — и уж по тому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я
вошь; потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в
свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду
великолепную и приятную цель, — ха-ха! Потому, в-третьих, что возможную
справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, и арифметику из всех вшей
выбрал самую наибесполезнейшую и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько
мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше (а остальное, стало быть, так и пошло бы
на монастырь, по духовному завещанию — ха-ха!)… Потому, потому я окончательно
вошь, — прибавил он, скрежеща зубами, — потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и
гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал , что скажу себе это уже после того, как
убью! Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, подлость!..
О, как я понимаю „пророка“, с саблей, на коне. Велит Аллах, и повинуйся „дрожащая“
тварь!110Прав, прав „пророк“, когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею
и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая
тварь, и — не желай , потому — не твое это дело!.. О, ни за что, ни за что не прощу
старушонке!»
Волосы его были смочены потом, вздрагивавшие губы запеклись, неподвижный взгляд
был устремлен в потолок.
«Мать, сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу,
физически ненавижу, подле себя не могу выносить… Давеча я подошел и поцеловал мать, я
помню… Обнимать и думать, что если б она узнала, то… разве сказать ей тогда? От меня это
станется… Гм! она должна быть такая же, как и я, — прибавил он, думая с усилием, как
будто борясь с охватывавшим его бредом. — О, как я ненавижу теперь старушонку!
Кажется, бы другой раз убил, если б очнулась! Бедная Лизавета! Зачем она тут
подвернулась!.. Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал?..
Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими… Милые!.. Зачем они не плачут?
Зачем они не стонут?.. Они всё отдают… глядят кротко и тихо… Соня, Соня! Тихая Соня!..»
Он забылся; странным показалось ему, что он не помнит, как мог он очутиться на
улице. Был уже поздний вечер. Сумерки сгущались, полная луна светлела всё ярче и ярче; но