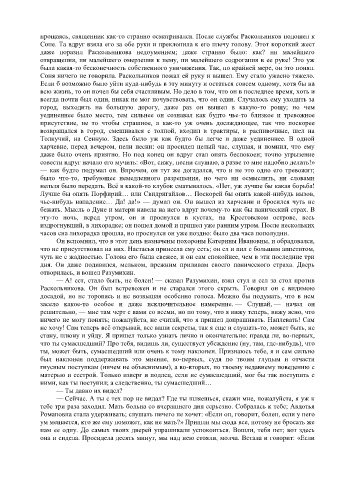Page 228 - Преступление и наказание
P. 228
прощаясь, священник как-то странно осматривался. После службы Раскольников подошел к
Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и преклонила к его плечу голову. Этот короткий жест
даже поразил Раскольникова недоумением; даже странно было: как? ни малейшего
отвращения, ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в ее руке! Это уж
была какая-то бесконечность собственного уничижения. Так, по крайней мере, он это понял.
Соня ничего не говорила. Раскольников пожал ей руку и вышел. Ему стало ужасно тяжело.
Если б возможно было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному, хотя бы на
всю жизнь, то он почел бы себя счастливым. Но дело в том, что он в последнее время, хоть и
всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за
город, выходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу; но чем
уединеннее было место, тем сильнее он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное
присутствие, не то чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее, так что поскорее
возвращался в город, смешивался с толпой, входил в трактиры, в распивочные, шел на
Толкучий, на Сенную. Здесь было уж как будто бы легче и даже уединеннее. В одной
харчевне, перед вечером, пели песни: он просидел целый час, слушая, и помнил, что ему
даже было очень приятно. Но под конец он вдруг стал опять беспокоен; точно угрызение
совести вдруг начало его мучить: «Вот, сижу, песни слушаю, а разве то мне надобно делать!»
— как будто подумал он. Впрочем, он тут же догадался, что и не это одно его тревожит;
было что-то, требующее немедленного разрешения, но чего ни осмыслить, ни словами
нельзя было передать. Всё в какой-то клубок сматывалось. «Нет, уж лучше бы какая борьба!
Лучше бы опять Порфирий… или Свидригайлов… Поскорей бы опять какой-нибудь вызов,
чье-нибудь нападение… Да! да!» — думал он. Он вышел из харчевни и бросился чуть не
бежать. Мысль о Дуне и матери навела на него вдруг почему-то как бы панический страх. В
эту-то ночь, перед утром, он и проснулся в кустах, на Крестовском острове, весь
издрогнувший, в лихорадке; он пошел домой и пришел уже ранним утром. После нескольких
часов сна лихорадка прошла, но проснулся он уже поздно: было два часа пополудни.
Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Катерины Ивановны, и обрадовался,
что не присутствовал на них. Настасья принесла ему есть; он ел и пил с большим аппетитом,
чуть не с жадностью. Голова его была свежее, и он сам спокойнее, чем в эти последние три
дня. Он даже подивился, мельком, прежним приливам своего панического страха. Дверь
отворилась, и вошел Разумихин.
— А! ест, стало быть, не болен! — сказал Разумихин, взял стул и сел за стол против
Раскольникова. Он был встревожен и не старался этого скрыть. Говорил он с видимою
досадой, но не торопясь и не возвышая особенно голоса. Можно бы подумать, что в нем
засело какое-то особое и даже исключительное намерение. — Слушай, — начал он
решительно, — мне там черт с вами со всеми, но по тому, что я вижу теперь, вижу ясно, что
ничего не могу понять; пожалуйста, не считай, что я пришел допрашивать. Наплевать! Сам
не хочу! Сам теперь всё открывай, все ваши секреты, так я еще и слушать-то, может быть, не
стану, плюну и уйду. Я пришел только узнать лично и окончательно: правда ли, во-первых,
что ты сумасшедший? Про тебя, видишь ли, существует убеждение (ну, там, где-нибудь), что
ты, может быть, сумасшедший или очень к тому наклонен. Признаюсь тебе, я и сам сильно
был наклонен поддерживать это мнение, во-первых, судя по твоим глупым и отчасти
гнусным поступкам (ничем не объяснимым), а во-вторых, по твоему недавнему поведению с
матерью и сестрой. Только изверг и подлец, если не сумасшедший, мог бы так поступить с
ними, как ты поступил; а следственно, ты сумасшедший…
— Ты давно их видел?
— Сейчас. А ты с тех пор не видал? Где ты шляешься, скажи мне, пожалуйста, я уж к
тебе три раза заходил. Мать больна со вчерашнего дня серьезно. Собралась к тебе; Авдотья
Романовна стала удерживать; слушать ничего не хочет: «Если он, говорит, болен, если у него
ум мешается, кто же ему поможет, как не мать?» Пришли мы сюда все, потому не бросать же
нам ее одну. До самых твоих дверей упрашивали успокоиться. Вошли, тебя нет; вот здесь
она и сидела. Просидела десять минут, мы над нею стояли, молча. Встала и говорит: «Если