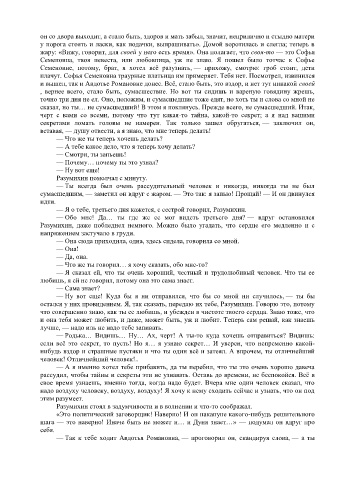Page 229 - Преступление и наказание
P. 229
он со двора выходит, а стало быть, здоров и мать забыл, значит, неприлично и стыдно матери
у порога стоять и ласки, как подачки, выпрашивать». Домой воротилась и слегла; теперь в
жару: «Вижу, говорит, для своей у него есть время». Она полагает, что своя-то — это Софья
Семеновна, твоя невеста, или любовница, уж не знаю. Я пошел было тотчас к Софье
Семеновне, потому, брат, я хотел всё разузнать, — прихожу, смотрю: гроб стоит, дети
плачут. Софья Семеновна траурные платьица им примеряет. Тебя нет. Посмотрел, извинился
и вышел, так и Авдотье Романовне донес. Всё, стало быть, это вздор, и нет тут никакой своей
, вернее всего, стало быть, сумасшествие. Но вот ты сидишь и вареную говядину жрешь,
точно три дня не ел. Оно, положим, и сумасшедшие тоже едят, но хоть ты и слова со мной не
сказал, но ты… не сумасшедший! В этом я поклянусь. Прежде всего, не сумасшедший. Итак,
черт с вами со всеми, потому что тут какая-то тайна, какой-то секрет; а я над вашими
секретами ломать головы не намерен. Так только зашел обругаться, — заключил он,
вставая, — душу отвести, а я знаю, что мне теперь делать!
— Что же ты теперь хочешь делать?
— А тебе какое дело, что я теперь хочу делать?
— Смотри, ты запьешь!
— Почему… почему ты это узнал?
— Ну вот еще!
Разумихин помолчал с минуту.
— Ты всегда был очень рассудительный человек и никогда, никогда ты не был
сумасшедшим, — заметил он вдруг с жаром. — Это так: я запью! Прощай! — И он двинулся
идти.
— Я о тебе, третьего дня кажется, с сестрой говорил, Разумихин.
— Обо мне! Да… ты где же ее мог видеть третьего дня? — вдруг остановился
Разумихин, даже побледнел немного. Можно было угадать, что сердце его медленно и с
напряжением застучало в груди.
— Она сюда приходила, одна, здесь сидела, говорила со мной.
— Она!
— Да, она.
— Что же ты говорил… я хочу сказать, обо мне-то?
— Я сказал ей, что ты очень хороший, честный и трудолюбивый человек. Что ты ее
любишь, я ей не говорил, потому она это сама знает.
— Сама знает?
— Ну вот еще! Куда бы я ни отправился, что бы со мной ни случилось, — ты бы
остался у них провидением. Я, так сказать, передаю их тебе, Разумихин. Говорю это, потому
что совершенно знаю, как ты ее любишь, и убежден в чистоте твоего сердца. Знаю тоже, что
и она тебя может любить, и даже, может быть, уж и любит. Теперь сам решай, как знаешь
лучше, — надо иль не надо тебе запивать.
— Родька… Видишь… Ну… Ах, черт! А ты-то куда хочешь отправиться? Видишь:
если всё это секрет, то пусть! Но я… я узнаю секрет… И уверен, что непременно какой-
нибудь вздор и страшные пустяки и что ты один всё и затеял. А впрочем, ты отличнейший
человек! Отличнейший человек!..
— А я именно хотел тебе прибавить, да ты перебил, что ты это очень хорошо давеча
рассудил, чтобы тайны и секреты эти не узнавать. Оставь до времени, не беспокойся. Всё в
свое время узнаешь, именно тогда, когда надо будет. Вчера мне один человек сказал, что
надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под
этим разумеет.
Разумихин стоял в задумчивости и в волнении и что-то соображал.
«Это политический заговорщик! Наверно! И он накануне какого-нибудь решительного
шага — это наверно! Иначе быть не может и… и Дуня знает…» — подумал он вдруг про
себя.
— Так к тебе ходит Авдотья Романовна, — проговорил он, скандируя слова, — а ты