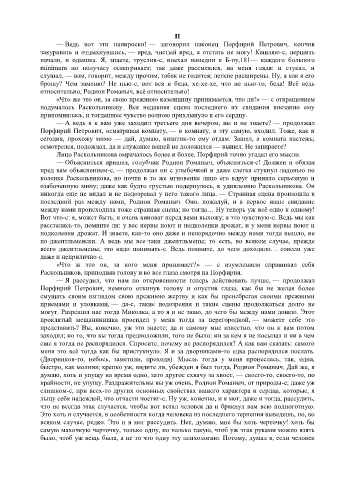Page 232 - Преступление и наказание
P. 232
II
— Ведь вот эти папироски! — заговорил наконец Порфирий Петрович, кончив
закуривать и отдыхнувшись, — вред, чистый вред, а отстать не могу! Кашляю-с, першить
начало, и одышка. Я, знаете, труслив-с, поехал намедни к Б-ну,181— каждого больного
minimum по получасу осматривает; так даже рассмеялся, на меня глядя: и стукал, и
слушал, — вам, говорит, между прочим, табак не годится; легкие расширены. Ну, а как я его
брошу? Чем заменю? Не пью-с, вот вся и беда, хе-хе-хе, что не пью-то, беда! Всё ведь
относительно, Родион Романыч, всё относительно!
«Что же это он, за свою прежнюю казенщину принимается, что ли!» — с отвращением
подумалось Раскольникову. Вся недавняя сцена последнего их свидания внезапно ему
припомнилась, и тогдашнее чувство волною прихлынуло к его сердцу.
— А ведь я к вам уже заходил третьего дня вечером; вы и не знаете? — продолжал
Порфирий Петрович, осматривая комнату, — в комнату, в эту самую, входил. Тоже, как и
сегодня, прохожу мимо — дай, думаю, визитик-то ему отдам. Зашел, а комната настежь;
осмотрелся, подождал, да и служанке вашей не доложился — вышел. Не запираете?
Лицо Раскольникова омрачалось более и более. Порфирий точно угадал его мысли.
— Объясниться пришел, голубчик Родион Романыч, объясниться-с! Должен и обязан
пред вам объяснением-с, — продолжал он с улыбочкой и даже слегка стукнул ладонью по
коленке Раскольникова, но почти в то же мгновение лицо его вдруг приняло серьезную и
озабоченную мину; даже как будто грустью подернулось, к удивлению Раскольникова. Он
никогда еще не видал и не подозревал у него такого лица. — Странная сцена произошла в
последний раз между нами, Родион Романыч. Оно, пожалуй, и в первое наше свидание
между нами происходила тоже странная сцена; но тогда… Ну теперь уж всё одно к одному!
Вот что-с: я, может быть, и очень виноват перед вами выхожу; я это чувствую-с. Ведь мы как
расстались-то, помните ли: у вас нервы поют и подколенки дрожат, и у меня нервы поют и
подколенки дрожат. И знаете, как-то оно даже и непорядочно между нами тогда вышло, не
по-джентльменски. А ведь мы все-таки джентльмены; то есть, во всяком случае, прежде
всего джентльмены; это надо понимать-с. Ведь помните, до чего доходило… совсем уже
даже и неприлично-с.
«Что ж это он, за кого меня принимает?» — с изумлением спрашивал себя
Раскольников, приподняв голову и во все глаза смотря на Порфирия.
— Я рассудил, что нам по откровенности теперь действовать лучше, — продолжал
Порфирий Петрович, немного откинув голову и опустив глаза, как бы не желая более
смущать своим взглядом свою прежнюю жертву и как бы пренебрегая своими прежними
приемами и уловками, — да-с, такие подозрения и такие сцены продолжаться долго не
могут. Разрешил нас тогда Миколка, а то я и не знаю, до чего бы между нами дошло. Этот
проклятый мещанинишка просидел у меня тогда за перегородкой, — можете себе это
представить? Вы, конечно, уж это знаете; да и самому мне известно, что он к вам потом
заходил; но то, что вы тогда предположили, того не было: ни за кем я не посылал и ни в чем
еще я тогда не распорядился. Спросите, почему не распорядился? А как вам сказать: самого
меня это всё тогда как бы пристукнуло. Я и за дворниками-то едва распорядился послать.
(Дворников-то, небось, заметили, проходя). Мысль тогда у меня пронеслась, так, одна,
быстро, как молния; крепко уж, видите ли, убежден я был тогда, Родион Романыч. Дай же, я
думаю, хоть и упущу на время одно, зато другое схвачу за хвост, — своего-то, своего-то, по
крайности, не упущу. Раздражительны вы уж очень, Родион Романыч, от природы-с; даже уж
слишком-с, при всех-то других основных свойствах вашего характера и сердца, которые, я
льщу себя надеждой, что отчасти постиг-с. Ну уж, конечно, и я мог, даже и тогда, рассудить,
что не всегда этак случается, чтобы вот встал человек да и брякнул вам всю подноготную.
Это хоть и случается, в особенности когда человека из последнего терпения выведешь, но, во
всяком случае, редко. Это и я мог рассудить. Нет, думаю, мне бы хоть черточку! хоть бы
самую махочкую черточку, только одну, но только такую, чтоб уж этак руками можно взять
было, чтоб уж вещь была, а не то что одну эту психологию. Потому, думал я, если человек