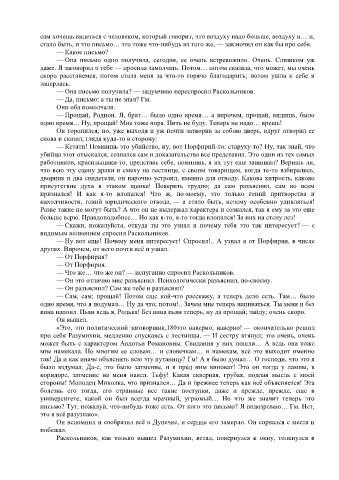Page 230 - Преступление и наказание
P. 230
сам хочешь видеться с человеком, который говорит, что воздуху надо больше, воздуху и… и,
стало быть, и это письмо… это тоже что-нибудь из того же, — заключил он как бы про себя.
— Какое письмо?
— Она письмо одно получила, сегодня, ее очень встревожило. Очень. Слишком уж
даже. Я заговорил о тебе — просила замолчать. Потом… потом сказала, что может, мы очень
скоро расстанемся, потом стала меня за что-то горячо благодарить; потом ушла к себе и
заперлась.
— Она письмо получила? — задумчиво переспросил Раскольников.
— Да, письмо; а ты не знал? Гм.
Они оба помолчали.
— Прощай, Родион. Я, брат… было одно время… а впрочем, прощай, видишь, было
одно время… Ну, прощай! Мне тоже пора. Пить не буду. Теперь не надо… врешь!
Он торопился; но, уже выходя и уж почти затворив за собою дверь, вдруг отворил ее
снова и сказал, глядя куда-то в сторону:
— Кстати! Помнишь это убийство, ну, вот Порфирий-то: старуху-то? Ну, так знай, что
убийца этот отыскался, сознался сам и доказательства все представил. Это один из тех самых
работников, красильщики-то, представь себе, помнишь, я их тут еще защищал? Веришь ли,
что всю эту сцену драки и смеху на лестнице, с своим товарищем, когда те-то взбирались,
дворник и два свидетеля, он нарочно устроил, именно для отводу. Какова хитрость, каково
присутствие духа в этаком щенке! Поверить трудно; да сам разъяснил, сам во всем
признался! И как я-то влопался! Что ж, по-моему, это только гений притворства и
находчивости, гений юридического отвода, — а стало быть, нечему особенно удивляться!
Разве такие не могут быть? А что он не выдержал характера и сознался, так я ему за это еще
больше верю. Правдоподобнее… Но как я-то, я-то тогда влопался! За них на стену лез!
— Скажи, пожалуйста, откуда ты это узнал и почему тебя это так интересует? — с
видимым волнением спросил Раскольников.
— Ну вот еще! Почему меня интересует! Спросил!.. А узнал я от Порфирия, в числе
других. Впрочем, от него почти всё и узнал.
— От Порфирия?
— От Порфирия.
— Что же… что же он? — испуганно спросил Раскольников.
— Он это отлично мне разъяснил. Психологически разъяснил, по-своему.
— Он разъяснил? Сам же тебе и разъяснял?
— Сам, сам; прощай! Потом еще кой-что расскажу, а теперь дело есть. Там… было
одно время, что я подумал… Ну да что; потом!.. Зачем мне теперь напиваться. Ты меня и без
вина напоил. Пьян ведь я, Родька! Без вина пьян теперь, ну да прощай; зайду; очень скоро.
Он вышел.
«Это, это политический заговорщик,180это наверно, наверно! — окончательно решил
про себя Разумихин, медленно спускаясь с лестницы. — И сестру втянул; это очень, очень
может быть с характером Авдотьи Романовны. Свидания у них пошли… А ведь она тоже
мне намекала. По многим ее словам… и словечкам… и намекам, всё это выходит именно
так! Да и как иначе объяснить всю эту путаницу? Гм! А я было думал… О господи, что это я
было вздумал. Да-с, это было затмение, и я пред ним виноват! Это он тогда у лампы, в
коридоре, затмение на меня навел. Тьфу! Какая скверная, грубая, подлая мысль с моей
стороны! Молодец Миколка, что признался… Да и прежнее теперь как всё объясняется! Эта
болезнь его тогда, его странные все такие поступки, даже и прежде, прежде, еще в
университете, какой он был всегда мрачный, угрюмый… Но что же значит теперь это
письмо? Тут, пожалуй, что-нибудь тоже есть. От кого это письмо? Я подозреваю… Гм. Нет,
это я всё разузнаю».
Он вспомнил и сообразил всё о Дунечке, и сердце его замерло. Он сорвался с места и
побежал.
Раскольников, как только вышел Разумихин, встал, повернулся к окну, толкнулся в