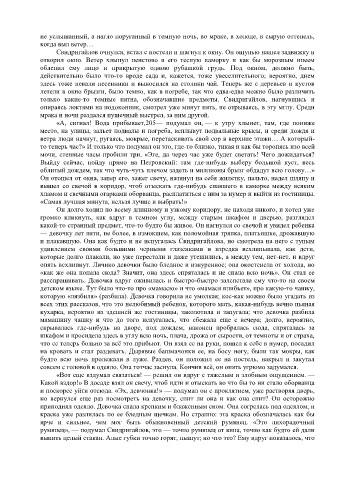Page 263 - Преступление и наказание
P. 263
не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель,
когда выл ветер…
Свидригайлов очнулся, встал с постели и шагнул к окну. Он ощупью нашел задвижку и
отворил окно. Ветер хлынул неистово в его тесную каморку и как бы морозным инеем
облепил ему лицо и прикрытую одною рубашкой грудь. Под окном, должно быть,
действительно было что-то вроде сада и, кажется, тоже увеселительного; вероятно, днем
здесь тоже певали песенники и выносился на столики чай. Теперь же с деревьев и кустов
летели в окно брызги, было темно, как в погребе, так что едва-едва можно было различить
только какие-то темные пятна, обозначавшие предметы. Свидригайлов, нагнувшись и
опираясь локтями на подоконник, смотрел уже минут пять, не отрываясь, в эту мглу. Среди
мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой.
«А, сигнал! Вода прибывает,205— подумал он, — к утру хлынет, там, где пониже
место, на улицы, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и
ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи… А который-
то теперь час?» И только что подумал он это, где-то близко, тикая и как бы торопясь изо всей
мочи, стенные часы пробили три. «Эге, да через час уже будет светать! Чего дожидаться?
Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский: там где-нибудь выберу большой куст, весь
облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть и миллионы брызг обдадут всю голову…»
Он отошел от окна, запер его, зажег свечу, натянул на себя жилетку, пальто, надел шляпу и
вышел со свечой в коридор, чтоб отыскать где-нибудь спавшего в каморке между всяким
хламом и свечными огарками оборванца, расплатиться с ним за нумер и выйти из гостиницы.
«Самая лучшая минута, нельзя лучше и выбрать!»
Он долго ходил по всему длинному и узкому коридору, не находя никого, и хотел уже
громко кликнуть, как вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью, разглядел
какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка
— девочку лет пяти, не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую
и плакавшую. Она как будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым
удивлением своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети,
которые долго плакали, но уже перестали и даже утешились, а между тем, нет-нет, и вдруг
опять всхлипнут. Личико девочки было бледное и изнуренное; она окостенела от холода, но
«как же она попала сюда? Значит, она здесь спряталась и не спала всю ночь». Он стал ее
расспрашивать. Девочка вдруг оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем
детском языке. Тут было что-то про «мамасю» и что «мамася плибьет», про какую-то чашку,
которую «лязбиля» (разбила). Девочка говорила не умолкая; кое-как можно было угадать из
всех этих рассказов, что это нелюбимый ребенок, которого мать, какая-нибудь вечно пьяная
кухарка, вероятно из здешней же гостиницы, заколотила и запугала; что девочка разбила
мамашину чашку и что до того испугалась, что сбежала еще с вечера; долго, вероятно,
скрывалась где-нибудь на дворе, под дождем, наконец пробралась сюда, спряталась за
шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от темноты и от страха,
что ее теперь больно за всё это прибьют. Он взял ее на руки, пошел к себе в нумер, посадил
на кровать и стал раздевать. Дырявые башмачонки ее, на босу ногу, были так мокры, как
будто всю ночь пролежали в луже. Раздев, он положил ее на постель, накрыл и закутал
совсем с головой в одеяло. Она тотчас заснула. Кончив всё, он опять угрюмо задумался.
«Вот еще вздумал связаться! — решил он вдруг с тяжелым и злобным ощущением. —
Какой вздор!» В досаде взял он свечу, чтоб идти и отыскать во что бы то ни стало оборванца
и поскорее уйти отсюда. «Эх, девчонка!» — подумал он с проклятием, уже растворяя дверь,
но вернулся еще раз посмотреть на девочку, спит ли она и как она спит? Он осторожно
приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и
краска уже разлилась по ее бледным щечкам. Но странно: эта краска обозначалась как бы
ярче и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский румянец. «Это лихорадочный
румянец», — подумал Свидригайлов, это — точно румянец от вина, точно как будто ей дали
выпить целый стакан. Алые губки точно горят, пышут; но что это? Ему вдруг показалось, что