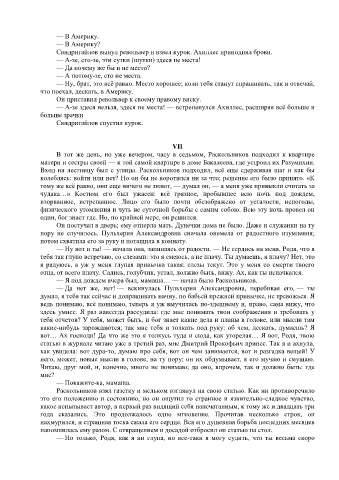Page 265 - Преступление и наказание
P. 265
— В Америку.
— В Америку?
Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови.
— А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здеся не места!
— Да почему же бы и не место?
— А потому-зе, сто не места.
— Ну, брат, это всё равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай,
что поехал, дескать, в Америку.
Он приставил револьвер к своему правому виску.
— А-зе здеся нельзя, здеся не места! — встрепенулся Ахиллес, расширяя всё больше и
больше зрачки
Свидригайлов спустил курок.
VII
В тот же день, но уже вечером, часу в седьмом, Раскольников подходил к квартире
матери и сестры своей — к той самой квартире в доме Бакалеева, где устроил их Разумихин.
Вход на лестницу был с улицы. Раскольников подходил, всё еще сдерживая шаг и как бы
колеблясь: войти или нет? Но он бы не воротился ни за что; решение его было принято. «К
тому же всё равно, они еще ничего не знают, — думал он, — а меня уже привыкли считать за
чудака…» Костюм его был ужасен: всё грязное, пробывшее всю ночь под дождем,
изорванное, истрепанное. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды,
физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собою. Всю эту ночь провел он
один, бог знает где. Но, по крайней мере, он решился.
Он постучал в дверь; ему отперла мать. Дунечки дома не было. Даже и служанки на ту
пору не случилось. Пульхерия Александровна сначала онемела от радостного изумления;
потом схватила его за руку и потащила в комнату.
— Ну вот и ты! — начала она, запинаясь от радости. — Не сердись на меня, Родя, что я
тебя так глупо встречаю, со слезами: это я смеюсь, а не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нет, это
я радуюсь, а уж у меня глупая привычка такая: слезы текут. Это у меня со смерти твоего
отца, от всего плачу. Садись, голубчик, устал, должно быть, вижу. Ах, как ты испачкался.
— Я под дождем вчера был, мамаша… — начал было Раскольников.
— Да нет же, нет! — вскинулась Пульхерия Александровна, перебивая его, — ты
думал, я тебя так сейчас и допрашивать начну, по бабьей прежней привычке, не тревожься. Я
ведь понимаю, всё понимаю, теперь я уж выучилась по-здешнему и, право, сама вижу, что
здесь умнее. Я раз навсегда рассудила: где мне понимать твои соображения и требовать у
тебя отчетов? У тебя, может быть, и бог знает какие дела и планы в голове, или мысли там
какие-нибудь зарождаются; так мне тебя и толкать под руку: об чем, дескать, думаешь? Я
вот… Ах господи! Да что же это я толкусь туда и сюда, как угорелая… Я вот, Родя, твою
статью в журнале читаю уже в третий раз, мне Дмитрий Прокофьич принес. Так я и ахнула,
как увидела: вот дура-то, думаю про себя, вот он чем занимается, вот и разгадка вещей! У
него, может, новые мысли в голове, на ту пору; он их обдумывает, я его мучаю и смущаю.
Читаю, друг мой, и, конечно, много не понимаю; да оно, впрочем, так и должно быть: где
мне?
— Покажите-ка, мамаша.
Раскольников взял газетку и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило
это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно-сладкое чувство,
какое испытывает автор, в первый раз видящий себя напечатанным, к тому же и двадцать три
года сказались. Это продолжалось одно мгновение. Прочитав несколько строк, он
нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце. Вся его душевная борьба последних месяцев
напомнилась ему разом. С отвращением и досадой отбросил он статью на стол.
— Но только, Родя, как я ни глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро