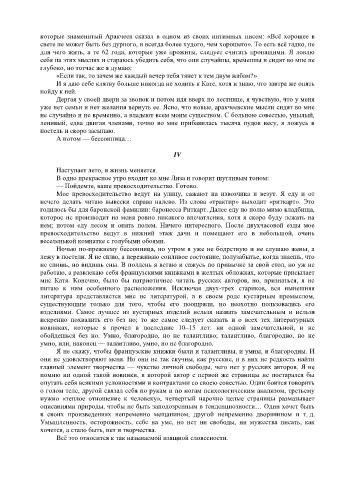Page 128 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 128
которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Всё хорошее в
свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть всё гадко, не
для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю
себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не
глубоко, но тотчас же я думаю:
«Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»
И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять
пойду к ней.
Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня
уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне
не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый,
ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в
постель и скоро засыпаю.
А потом — бессонница…
IV
Наступает лето, и жизнь меняется.
В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном:
— Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.
Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от
нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это
годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища,
которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на
нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое
превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень
веселенькой комнатке с голубыми обоями.
Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а
лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что
не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не
работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает
мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не
питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя
литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом,
существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его
изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя
искренно похвалить его без но; то же самое следует сказать и о всех тех литературных
новинках, которые я прочел в последние 10–15 лет: ни одной замечательной, и не
обойдешься без но. Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не
умно, или, наконец — талантливо, умно, но не благородно.
Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И
они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти
главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не
помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы
опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить
о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему
нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает
описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности… Один хочет быть
в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д.
Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как
хочется, а стало быть, нет и творчества.
Всё это относится к так называемой изящной словесности.