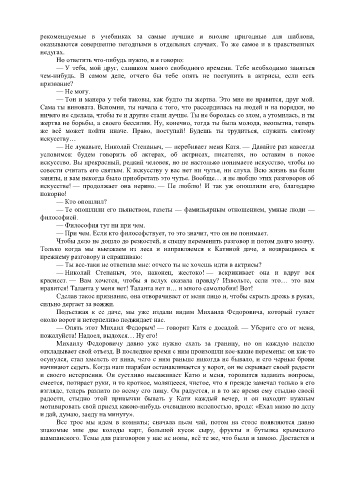Page 132 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 132
рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона,
оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных
недугах.
Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:
— У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться
чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть
призвание?
— Не могу.
— Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой.
Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но
ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты
жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь
же всё может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому
искусству…
— Не лукавьте, Николай Степаныч, — перебивает меня Катя. — Давайте раз навсегда
условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое
искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по
совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были
заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще… я не люблю этих разговоров об
искусстве! — продолжает она нервно. — Не люблю! И так уж опошлили его, благодарю
покорно!
— Кто опошлил?
— Те опошлили его пьянством, газеты — фамильярным отношением, умные люди —
философией.
— Философия тут ни при чем.
— При чем. Если кто философствует, то это значит, что он не понимает.
Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу.
Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к
прежнему разговору и спрашиваю:
— Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?
— Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! — вскрикивает она и вдруг вся
краснеет. — Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это… это вам
нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и… и много самолюбия! Вот!
Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках,
сильно дергает за вожжи.
Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет
около ворот и нетерпеливо поджидает нас.
— Опять этот Михаил Федорыч! — говорит Катя с досадой. — Уберите его от меня,
пожалуйста! Надоел, выдохся… Ну его!
Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю
откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли кое-какие перемены: он как-то
осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови
начинают седеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости
и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы,
смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его
взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей
радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным
мотивировать свой приезд какою-нибудь очевидною нелепостью, вроде: «Ехал мимо по делу
и дай, думаю, заеду на минуту».
Все трое мы идем в комнаты; сначала пьем чай, потом на столе появляются давно
знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского
шампанского. Темы для разговоров у нас не новы, всё те же, что были и зимою. Достается и