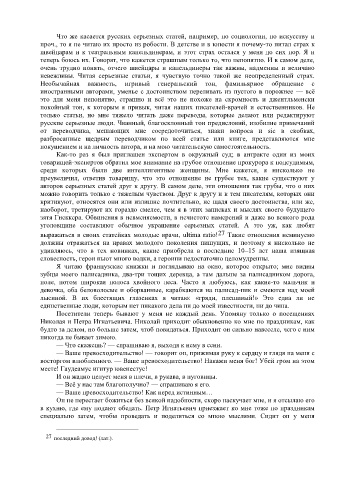Page 129 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 129
Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и
проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к
швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и
теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле,
очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво
невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх.
Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с
иностранными авторами, уменье с достоинством переливать из пустого в порожнее — всё
это для меня непонятно, страшно и всё это не похоже на скромность и джентльменски
покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не
только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют
русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний
от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и sic в скобках,
разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне
покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.
Как-то раз я был приглашен экспертом в окружный суд; в антракте один из моих
товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым,
среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не
преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у
авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них
можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они
критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же,
наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего
зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода
уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят
выражаться в своих статейках молодые врачи, ultima ratio! 27 Такие отношения неминуемо
должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не
удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние 10–15 лет наша изящная
словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.
Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны
зубцы моего палисадника, два-три тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога,
поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и
девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисад-пик и смеются над моей
лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «гряди, плешивый!» Это едва ли не
единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.
Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях
Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как
будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним
никогда не бывает зимою.
— Что скажешь? — спрашиваю я, выходя к нему в сени.
— Ваше превосходительство! — говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с
восторгом влюбленного. — Ваше превосходительство! Накажи меня бог! Убей гром на этом
месте! Гаудеамус игитур ювенестус!
И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.
— Всё у нас там благополучно? — спрашиваю я его.
— Ваше превосходительство! Как перед истинным…
Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его
в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам
специально затем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня
27 последний довод! (лат.).