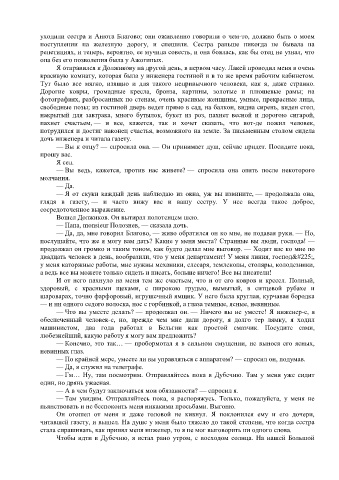Page 213 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 213
уходили сестра и Анюта Благово; они оживленно говорили о чем-то, должно быть о моем
поступлении на железную дорогу, и спешили. Сестра раньше никогда не бывала на
репетициях, и теперь, вероятно, ее мучила совесть, и она боялась, как бы отец не узнал, что
она без его позволения была у Ажогиных.
Я отправился к Должикову на другой день, в первом часу. Лакей проводил меня в очень
красивую комнату, которая была у инженера гостиной и в то же время рабочим кабинетом.
Тут было все мягко, изящно и для такого непривычного человека, как я, даже странно.
Дорогие ковры, громадные кресла, бронза, картины, золотые и плюшевые рамы; на
фотографиях, разбросанных по стенам, очень красивые женщины, умные, прекрасные лица,
свободные позы; из гостиной дверь ведет прямо в сад, на балкон, видна сирень, виден стол,
накрытый для завтрака, много бутылок, букет из роз, пахнет весной и дорогою сигарой,
пахнет счастьем, — и все, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек,
потрудился и достиг наконец счастья, возможного на земле. За письменным столом сидела
дочь инженера и читала газету.
— Вы к отцу? — спросила она. — Он принимает душ, сейчас придет. Посидите пока,
прошу вас.
Я сел.
— Вы ведь, кажется, против нас живете? — спросила она опять после некоторого
молчания.
— Да.
— Я от скуки каждый день наблюдаю из окна, уж вы извините, — продолжала она,
глядя в газету, — и часто вижу вас и вашу сестру. У нее всегда такое доброе,
сосредоточенное выражение.
Вошел Должиков. Он вытирал полотенцем шею.
— Папа, monsieur Полознев, — сказала дочь.
— Да, да, мне говорил Благово, — живо обратился он ко мне, не подавая руки. — Но,
послушайте, что же я могу вам дать? Какие у меня места? Странные вы люди, господа! —
продолжал он громко и таким тоном, как будто делал мне выговор. — Ходит вас ко мне по
двадцать человек в день, вообразили, что у меня департамент! У меня линия, господá,
у меня каторжные работы, мне нужны механики, слесаря, землекопы, столяры, колодезники,
а ведь все вы можете только сидеть и писать, больше ничего! Все вы писатели!
И от него пахнуло на меня тем же счастьем, что и от его ковров и кресел. Полный,
здоровый, с красными щеками, с широкою грудью, вымытый, в ситцевой рубахе и
шароварах, точно фарфоровый, игрушечный ямщик. У него была круглая, курчавая бородка
— и ни одного седого волоска, нос с горбинкой, а глаза темные, ясные, невинные.
— Что вы умеете делать? — продолжал он. — Ничего вы не умеете! Я инженер-с, я
обеспеченный человек-с, но, прежде чем мне дали дорогу, я долго тер лямку, я ходил
машинистом, два года работал в Бельгии как простой смазчик. Посудите сами,
любезнейший, какую работу я могу вам предложить?
— Конечно, это так… — пробормотал я в сильном смущении, не вынося его ясных,
невинных глаз.
— По крайней мере, умеете ли вы управляться с аппаратом? — спросил он, подумав.
— Да, я служил на телеграфе.
— Гм… Ну, там посмотрим. Отправляйтесь пока в Дубечню. Там у меня уже сидит
один, но дрянь ужасная.
— А в чем будут заключаться мои обязанности? — спросил я.
— Там увидим. Отправляйтесь пока, я распоряжусь. Только, пожалуйста, у меня не
пьянствовать и не беспокоить меня никакими просьбами. Выгоню.
Он отошел от меня и даже головой не кивнул. Я поклонился ему и его дочери,
читавшей газету, и вышел. На душе у меня было тяжело до такой степени, что когда сестра
стала спрашивать, как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного слова.
Чтобы идти в Дубечню, я встал рано утром, с восходом солнца. На нашей Большой