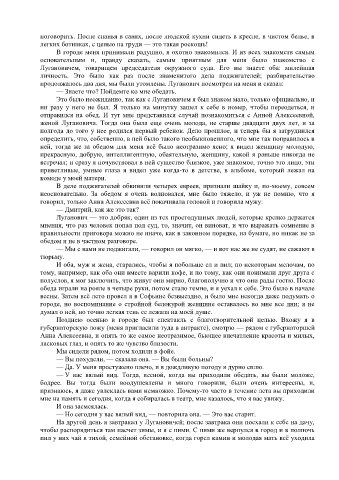Page 288 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 288
поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в
легких ботинках, с цепью на груди — это такая роскошь!
В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым
основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с
Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая
личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство
продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:
— Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.
Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и
ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и
отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной,
женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за
полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился
определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в
ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую,
прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не
встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти
приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на
комоде у моей матери.
В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем
неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я
говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:
— Дмитрий, как же это так?
Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся
мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в
правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за
обедом и не в частном разговоре.
— Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в
тюрьму.
И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по
тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с
полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После
обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале
весны. Затем всё лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о
городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не
думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.
Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в
губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей
Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых,
ласковых глаз, и опять то же чувство близости.
Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.
— Вы похудели, — сказала она. — Вы были больны?
— Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.
— У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе,
бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и,
признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили
мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.
И она засмеялась.
— Но сегодня у вас вялый вид, — повторила она. — Это вас старит.
На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу,
чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь
пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила