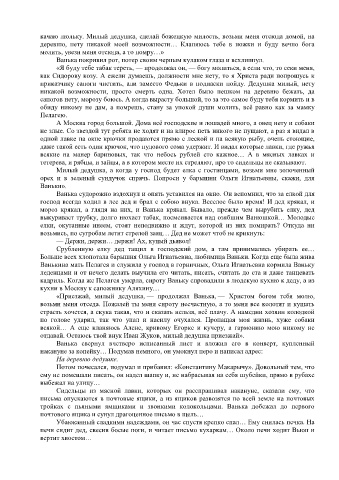Page 40 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 40
качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на
деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога
молить, увези меня отсюда, а то помру…»
Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.
«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — богу молиться, а если что, то секи меня,
как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к
приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету
никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да
сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в
обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку
Пелагею.
А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки
не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в
одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие,
даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья
всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и
тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.
Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный
орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для
Ваньки».
Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для
господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и
мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед
выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые
елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни
возьмись, по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может чтоб не крикнуть:
— Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!
Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее…
Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива
Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку
леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать
кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из
кухни в Москву к сапожнику Аляхину…
«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом богом тебя молю,
возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать
страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой
по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки
всякой… А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не
отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».
Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный
накануне за копейку… Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что
ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе
выбежал на улицу…
Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что
письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых
тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого
почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…
Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка. На
печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и
вертит хвостом…