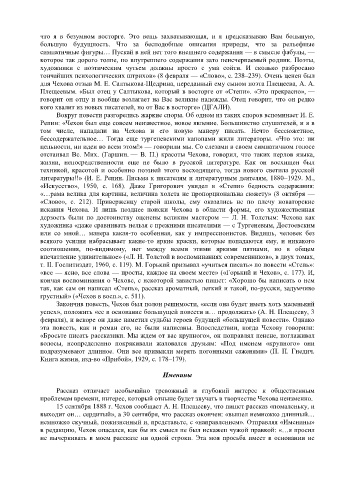Page 475 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 475
что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую,
большую будущность. Что за бесподобные описания природы, что за рельефные
симпатичные фигуры… Пускай в ней нет того внешнего содержания — в смысле фабулы, —
которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неисчерпаемый родник. Поэты,
художники с поэтическим чутьем должны просто с ума сойти. И сколько разбросано
тончайших психологических штрихов» (8 февраля — «Слово», с. 238–239). Очень ценен был
для Чехова отзыв М. Е. Салтыкова-Щедрина, переданный ему сыном поэта Плещеева, А. А.
Плещеевым. «Был отец у Салтыкова, который в восторге от «Степи». «Это прекрасно», —
говорит он отцу и вообще возлагает на Вас великие надежды. Отец говорит, что он редко
кого хвалит из новых писателей, но от Вас в восторге» (ЦГАЛИ).
Вокруг повести разгорелись жаркие споры. Об одном из таких споров вспоминает И. Е.
Репин: «Чехов был еще совсем неизвестное, новое явление. Большинство слушателей, и я в
том числе, нападали на Чехова и его новую манеру писать. Нечто бессюжетное,
бессодержательное… Тогда еще тургеневскими канонами жили литераторы. «Что это: ни
цельности, ни идеи во всем этом!» — говорили мы. Со слезами в своем симпатичном голосе
отстаивал Вс. Мих. (Гаршин. — В. П.) красоты Чехова, говорил, что таких перлов языка,
жизни, непосредственности еще не было в русской литературе. Как он восхищен был
техникой, красотой и особенно поэзией этого восходящего, тогда нового светила русской
литературы!!» (И. Е. Репин. Письма к писателям и литературным деятелям, 1880–1929. М.,
«Искусство», 1950, с. 168). Даже Григорович увидел в «Степи» бедность содержания:
«…рама велика для картины, величина холста не пропорциональна сюжету» (8 октября —
«Слово», с. 212). Приверженцу старой школы, ему оказались не по плечу новаторские
искания Чехова. И лишь позднее поиски Чехова в области формы, его художественная
дерзость были по достоинству оценены великим мастером — Л. Н. Толстым: Чехова как
художника «даже сравнивать нельзя с прежними писателями — с Тургеневым, Достоевским
или со мной… манера какая-то особенная, как у импрессионистов. Видишь, человек без
всякого усилия набрасывает какие-то яркие краски, которые попадаются ему, и никакого
соотношения, по-видимому, нет между всеми этими яркими пятнами, но в общем
впечатление удивительное» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», в двух томах,
т. II. Гослитиздат, 1960, с. 119). М. Горький призывал «учиться писать» по повести «Степь»:
«все — ясно, все слова — просты, каждое на своем месте» («Горький и Чехов», с. 177). И,
кончая воспоминания о Чехове, с некоторой завистью пишет: «Хорошо бы написать о нем
так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво
грустный» («Чехов в восп.», с. 511).
Закончив повесть, Чехов был полон решимости, «если она будет иметь хоть маленький
успех», положить «ее в основание большущей повести и… продолжать» (А. Н. Плещееву, 3
февраля), и вскоре он даже наметил судьбы героев будущей «большущей повести». Однако
эта повесть, как и роман его, не были написаны. Впоследствии, когда Чехову говорили:
«Бросьте писать рассказики. Мы ждем от вас крупного», он поправлял пенсне, поглаживал
волосы, неопределенно покрякивали жаловался друзьям: «Под именем «крупного» они
подразумевают длинное. Они все привыкли мерять погонными саженями» (П. П. Гнедич.
Книга жизни, изд-во «Прибой», 1929, с. 178–179).
Именины
Рассказ отличает необычайно тревожный и глубокий интерес к общественным
проблемам времени, интерес, который отныне будет звучать в творчестве Чехова неизменно.
15 сентября 1888 г. Чехов сообщает А. Н. Плещееву, что пишет рассказ «помаленьку, и
выходит он… сердитый», а 30 сентября, что рассказ окончен: «вышел немножко длинный…
немножко скучный, пожизненный и, представьте, с «направлением». Отправляя «Именины»
в редакцию, Чехов опасался, как бы их смысл не был искажен чужой правкой: «…я просил
не вычеркивать в моем рассказе ни одной строки. Эта моя просьба имеет в основании не