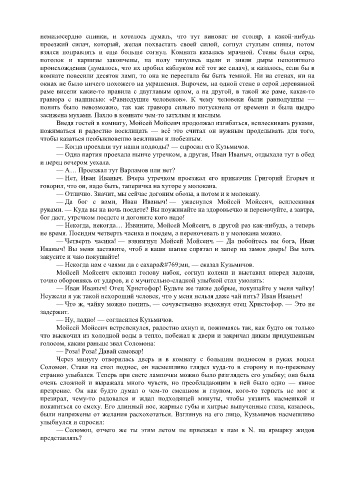Page 51 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 51
немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь
проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом
взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы,
потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного
происхождения (думалось, что их пробил каблуком всё тот же силач), и казалось, если бы в
комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на
окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной
раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то
гравюра с надписью: «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны —
понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро
засижена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.
Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками,
пожиматься и радостно восклицать — всё это считал он нужным проделывать для того,
чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.
— Когда проехали тут наши подводы? — спросил его Кузьмичов.
— Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед
и перед вечером уехала.
— А… Проезжал тут Варламов или нет?
— Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и
говорил, что он, надо быть, таперичка на хуторе у молокана.
— Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.
— Да бог с вами, Иван Иваныч! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая
руками. — Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра,
бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!
— Некогда, некогда… Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь
не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.
— Четверть часика! — взвизгнул Мойсей Мойсеич. — Да побойтесь вы бога, Иван
Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть
закусите и чаю покушайте!
— Некогда нам с чаями да с сахара́ми, — сказал Кузьмичов.
Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони,
точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:
— Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку!
Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!
— Что ж, чайку можно попить, — сочувственно вздохнул отец Христофор. — Это не
задержит.
— Ну, ладно! — согласился Кузьмичов.
Мойсей Мойсеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только
что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным
голосом, каким раньше звал Соломона:
— Роза! Роза! Давай самовар!
Через минуту отворилась дверь и в комнату с большим подносом в руках вошел
Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему
странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была
очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное
презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и
презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и
покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые выпученные глаза, казалось,
были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо
улыбнулся и спросил:
— Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов
представлять?