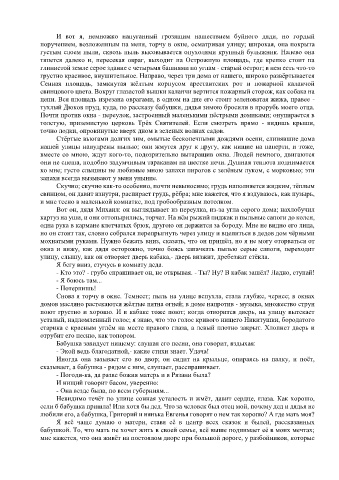Page 37 - Детство
P. 37
И вот я, немножко напуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый
поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу; широкая, она покрыта
густым слоем пыли, сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжник. Налево она
тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на
глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам - старый острог; в нем есть что-то
грустно красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко развёртывается
Сенная площадь, замкнутая жёлтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой
свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на
цепи. Вся площадь изрезана оврагами, в одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее -
тухлый Дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядья зимою бросили в прорубь моего отца.
Почти против окна - переулок, застроенный маленькими пёстрыми домиками; онупирается в
толстую, приземистую церковь Трёх Святителей. Если смотреть прямо - видишь крыши,
точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов.
Стёртые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома
нашей улицы напудрены пылью; они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже,
вместе со мною, ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются
они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается
ко мне; густо слышны не любимые мною запахи пирогов с зелёным луком, с морковью; эти
запахи всегда вызывают у меня уныние.
Скучно; скучно как-то особенно, почти невыносимо; грудь наполняется жидким, тёплым
свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, рёбра; мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь,
и мне тесно в маленькой комнатке, под гробообразным потолком.
Вот он, дядя Михаил: он выглядывает из переулка, из-за угла серого дома; нахлобучил
картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нём рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен,
одна рука в кармане клетчатых брюк, другою он держится за бороду. Мне не видно его лица,
но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом чёрными
мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришёл, но я не могу оторваться от
окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые сапоги, переходит
улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака,- дверь визжит, дребезжат стёкла.
Я бегу вниз, стучусь в комнату деда.
- Кто это? - грубо спрашивает он, не открывая. - Ты? Ну? В кабак зашёл? Ладно, ступай!
- Я боюсь там...
- Потерпишь!
Снова я торчу в окне. Темнеет; пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее; в окнах
домов масляно растекаются жёлтые пятна огней; в доме напротив - музыка, множество струн
поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют; когда отворится дверь, на улицу вытекает
усталый, надломленный голос; я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого
старика с красным углём на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и
отрубит его песню, как топором.
Бабушка завидует нищему: слушая его песни, она говорит, вздыхая:
- Экой ведь благодатной,- какие стихи знает. Удача!
Иногда она зазывает его во двор; он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поёт,
сказывает, а бабушка - рядом с ним, слушает, расспрашивает.
- Погоди-ка, да разве божия матерь и в Рязани была?
И нищий говорит басом, уверенно:
- Она везде была, по всем губерниям...
Невидимо течёт по улице сонная усталость и жмёт, давит сердце, глаза. Как хорошо,
если б бабушка пришла! Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой, почему дед и дядья не
любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгенья говорят о нем так хорошо? А где мать моя?
Я всё чаще думаю о матери, ставя её в центр всех сказок и былей, рассказанных
бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, всё выше поднимает её в моих мечтах;
мне кажется, что она живёт на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые