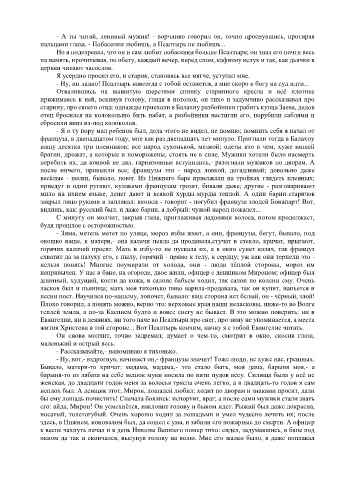Page 33 - Детство
P. 33
- А ты читай, ленивый мужик! - ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая
пальцами глаза. - Побасенки любишь, а Псалтырь не любишь...
Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше Псалтыря; он знал его почти весь
на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух и так, как дьячки в
церкви читают часослов.
Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне.
- Ну, ин ладно! Псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к богу на суд идти...
Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и всё плотнее
прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про
старину, про своего отца: однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева, дедов
отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и
сбросили вниз из-под колоколов.
- Я о ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помню; помнить себя я начал от
француза, в двенадцатом году, мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в Балахну
нашу десятка три пленников; все народ сухонькой, мелкой; одеты кто в чем, хуже нищей
братии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть
перебить их, да конвой не дал. гарнизонные вступились,- разогнали мужиков по дворам. А
после ничего, привыкли все; французы эти - народ ловкой, догадливый; довольно даже
весёлые - песни, бывало, поют. Из Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных;
приедут и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже; другие - разговаривают
мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок
закрыл лицо руками и заплакал: вконец - говорит - погубил француза злодей Бонапарт! Вот,
видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел...
С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает,
будя прошлое с осторожностью.
- Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под
окошко наше, к матери,- она калачи пекла да продавала,стучат в стекло, кричат, прыгают,
горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз
схватит да за пазуху его, с пылу, горячий - прямо к телу, к сердцу; уж как они терпели это -
нельзя понять! Многие поумирали от холода, они - люди тёплой стороны, мороз им
непривычен. У нас в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном; офицер был
длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень
ласков был и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьется и
песни поет. Научился по-нашему, лопочет, бывало: ваш сторона нет белый, он - чёрный, злой!
Плохо говорил, а понять можно, верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то во Волге
теплей земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в
Евангелии, ни в деяниях, ни того паче во Псалтыри про снег, про зиму не упоминается, а места
жития Христова в той стороне... Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать.
Он снова молчит, точно задремал; думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза,
маленький и острый весь.
- Рассказывайте,- напоминаю я тихонько.
- Ну, вот,- вздрогнув, начинает он,- французы значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных.
Бывало, матери-то кричат: мадама, мадама,- это стало быть, моя дама, барыня моя,- а
барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища была у неё не
женская, до двадцати годов меня за волосья трясла очень легко, а в двадцать-то годов я сам
неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали
бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг; а после сами мужики стали звать
его: айда, Мирон! Он усмехнётся, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна,
носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их; после
здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер
к весне чахнуть начал и в день Николы Вешнего помер тихо: сидел, задумавшись, в бане под
окном да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал