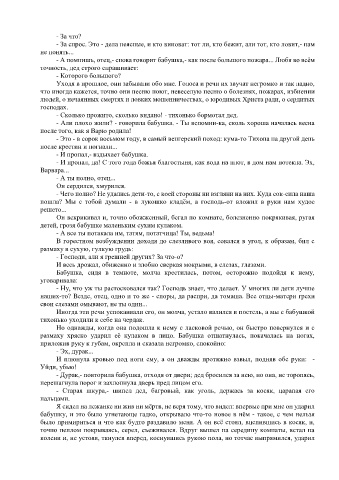Page 35 - Детство
P. 35
- За что?
- За спрос. Это - дела неясные, и кто виноват: тот ли, кто бежит, али тот, кто ловит,- нам
не понять...
- А помнишь, отец,- снова говорит бабушка,- как после большого пожара... Любя во всём
точность, дед строго спрашивает:
- Которого большого?
Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно,
что иногда кажется, точно они песню поют, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении
людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых
господах.
- Сколько прожито, сколько видано! - тихонько бормотал дед.
- Али плохо жили? - говорила бабушка. - Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна
после того, как я Варю родила!
- Это - в сорок восьмом году, в самый венгерский поход: кума-то Тихона на другой день
после крестин и погнали...
- И пропал,- вздыхает бабушка.
- И пропал, да! С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом нам потекла. Эх,
Варвара...
- А ты полно, отец...
Он сердился, хмурился.
- Чего полно? Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок-сила наша
пошла? Мы с тобой думали - в лукошко кладём, а господь-от вложил в руки нам худое
решето...
Он вскрикивал и, точно обожженный, бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая
детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком.
- А все ты потакала им, татям, потатчица! Ты, ведьма!
В горестном возбуждении доходя до слезливого воя, совался в угол, к образам, бил с
размаху в сухую, гулкую грудь:
- Господи, али я грешней других? За что-о?
И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми, в слезах, глазами.
Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему,
уговаривала:
- Ну, что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше
наших-то? Везде, отец, одно и то же - споры, да распри, да томаша. Все отцы-матери грехи
свои слезами омывают, не ты один...
Иногда эти речи успокаивали его, он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой
тихонько уходили к себе на чердак.
Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с
размаху хряско ударил её кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах,
приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно:
- Эх, дурак...
И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки: -
Уйди, убью!
- Дурак,- повторила бабушка, отходя от двери; дед бросился за нею, но она, не торопясь,
перешагнула порог и захлопнула дверь пред лицом его.
- Старая шкура,- шипел дед, багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его
пальцами.
Я сидел на лежанке ни жив ни мёртв, не веря тому, что видел: впервые при мне он ударил
бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нём - такое, с чем нельзя
было примириться и что как будто раздавило меня. А он всё стоял, вцепившись в косяк, и,
точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на
колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукою пола, но тотчас выпрямился, ударил