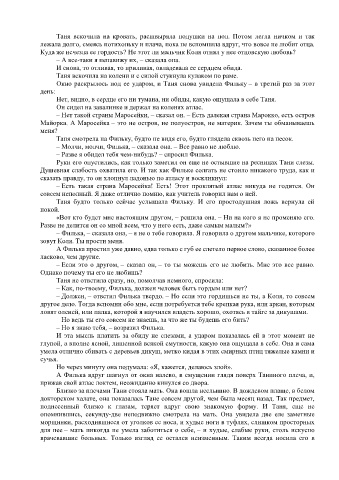Page 11 - Дикая собака Динго,или Повесть о первой любви
P. 11
Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки на пол. Потом легла ничком и так
лежала долго, смеясь потихоньку и плача, пока не вспомнила вдруг, что вовсе не любит отца.
Куда же исчезла ее гордость? Не этот ли мальчик Коля отнял у нее отцовскую любовь?
– А все-таки я ненавижу их, – сказала она.
И снова, то отливая, то приливая, овладевала ее сердцем обида.
Таня вскочила на колени и с силой стукнула кулаком по раме.
Окно раскрылось под ее ударом, и Таня снова увидела Фильку – в третий раз за этот
день:
Нет, видно, в сердце его ни тумана, ни обиды, какую ощущала в себе Таня.
Он сидел на завалинке и держал на коленях атлас.
– Нет такой страны Маросейки, – сказал он. – Есть далекая страна Марокко, есть остров
Майорка. А Маросейка – это не остров, не полуостров, не материк. Зачем ты обманываешь
меня?
Таня смотрела на Фильку, будто не видя его, будто глядела сквозь него на песок.
– Молчи, молчи, Филька, – сказала она. – Все равно не люблю.
– Разве я обидел тебя чем-нибудь? – спросил Филька.
Руки его опустились, как только заметил он еще не остывшие на ресницах Тани слезы.
Душевная слабость охватила его. И так как Фильке солгать не стоило никакого труда, как и
сказать правду, то он хлопнул ладонью по атласу и воскликнул:
– Есть такая страна Маросейка! Есть! Этот проклятый атлас никуда не годится. Он
совсем неполный. Я даже отлично помню, как учитель говорил нам о ней.
Таня будто только сейчас услышала Фильку. И его простодушная ложь вернула ей
покой.
«Вот кто будет мне настоящим другом, – решила она. – Ни на кого я не променяю его.
Разве не делится он со мной всем, что у него есть, даже самым малым?»
– Филька, – сказала она, – я не о тебе говорила. Я говорила о другом мальчике, которого
зовут Коля. Ты прости меня.
А Филька простил уже давно, едва только с губ ее слетело первое слово, сказанное более
ласково, чем другие.
– Если это о другом, – сказал он, – то ты можешь его не любить. Мне это все равно.
Однако почему ты его не любишь?
Таня не ответила сразу, но, помолчав немного, спросила:
– Как, по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет?
– Должен, – ответил Филька твердо. – Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем
другое дело. Тогда вспомни обо мне, если потребуется тебе крепкая рука, или аркан, которым
ловят оленей, или палка, которой я научился владеть хорошо, охотясь в тайге за дикушами.
– Но ведь ты его совсем не знаешь, за что же ты будешь его бить?
– Но я знаю тебя, – возразил Филька.
И эта мысль платить за обиду не слезами, а ударом показалась ей в этот момент не
глупой, а вполне ясной, лишенной всякой смутности, какую она ощущала в себе. Она и сама
умела отлично сбивать с деревьев дикуш, метко кидая в этих смирных птиц тяжелые камни и
сучья.
Но через минуту она подумала: «Я, кажется, делаюсь злой».
А Филька вдруг шагнул от окна налево, в смущении глядя поверх Таниного плеча, и,
прижав свой атлас локтем, неожиданно кинулся со двора.
Близко за плечами Тани стояла мать. Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом
докторском халате, она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет,
поднесенный близко к глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не
опомнившись, секунду-две неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные
морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных
для нее – мать никогда не умела заботиться о себе, – и худые, слабые руки, столь искусно
врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в