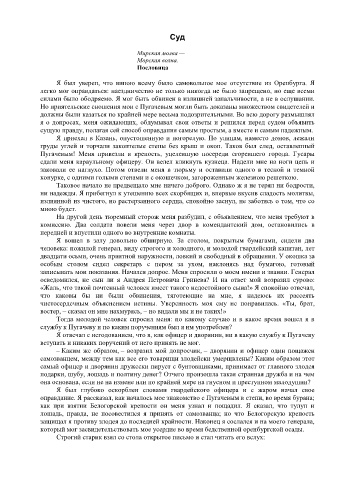Page 51 - Капитанская дочка
P. 51
Суд
Мирская молва —
Морская волна.
Пословица
Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я
легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми
силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании.
Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и
должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял
я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить
сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.
Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали
груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный
Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Гусары
сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и
заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной
конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.
Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости,
ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы,
излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со
мною будет.
На другой день тюремный сторож меня разбудил, с объявлением, что меня требуют в
комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в
передней и впустили одного во внутренние комнаты.
Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два
человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет
двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за
особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый
записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал
осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово:
«Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал,
что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять
чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат,
востер, – сказал он мне нахмурясь, – но видали мы и не таких!»
Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в
службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?
Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву
вступать и никаких поручений от него принять не мог.
– Каким же образом, – возразил мой допросчик, – дворянин и офицер один пощажен
самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот
самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея
подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем
она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?
Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое
оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана;
как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и
лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость
защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала,
который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.
Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух: