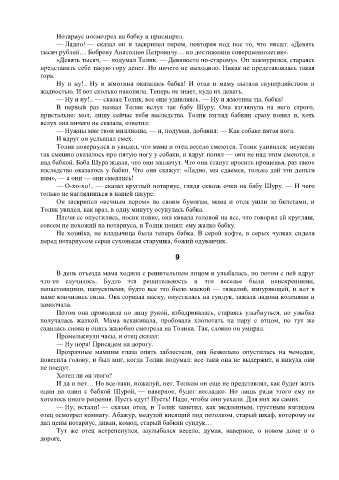Page 124 - Лабиринт
P. 124
Нотариус посмотрел на бабку и присмирел.
— Ладно! — сказал он и заскрипел пером, повторяя под нос то, что писал: «Девять
тысяч рублей… Боброву Анатолию Петровичу… по достижении совершеннолетия».
«Девять тысяч, — подумал Толик. — Девяносто по-старому». Он зажмурился, стараясь
представить себе такую гору денег. Но ничего не выходило. Никак не представлялась такая
гора.
Ну и ну!.. Ну и жмотина оказалась бабка! И отца и маму пытала скупердяйством и
жадностью. И вот сколько накопила. Теперь не знает, куда их девать.
— Ну и ну!.. — сказал Толик, все еще удивляясь. — Ну и жмотина ты, бабка!
В первый раз назвал Толик вслух так бабу Шуру. Она взглянула на него строго,
пристально: мол, лишу сейчас тебя наследства. Толик взгляд бабкин сразу понял и, хоть
вслух она ничего не сказала, ответил:
— Нужны мне твои миллионы, — и, подумав, добавил: — Как собаке пятая нога.
И вдруг он услышал смех.
Толик повернулся и увидел, что мама и отец весело смеются. Толик удивился: неужели
так смешно оказалось про пятую ногу у собаки, и вдруг понял — они не над этим смеются, а
над бабкой. Баба Шура ждала, что они заплачут. Что они станут просить прощенья, раз такое
наследство оказалось у бабки. Что они скажут: «Ладно, мы сдаемся, только дай эти деньги
нам», — а они — они смеялись!
— О-хо-хо!.. — сказал круглый нотариус, глядя сквозь очки на бабу Шуру. — И чего
только не наглядишься в нашей шкуре.
Он заскрипел «вечным пером» по своим бумагам, мама и отец ушли за билетами, и
Толик увидел, как враз, в одну минуту осунулась бабка.
Плечи ее опустились, носик повис, она кивала головой на все, что говорил ей кругляш,
совсем не похожий на нотариуса, и Толик понял: ему жалко бабку.
Не хозяйка, не владычица была теперь бабка. В серой кофте, в серых чулках сидела
перед нотариусом серая сухонькая старушка, божий одуванчик.
9
В день отъезда мама ходила с решительным лицом и улыбалась, но потом с ней вдруг
что-то случилось. Будто эта решительность и это веселье были неискренними,
ненастоящими, напускными, будто все это было маской — тяжелой, изнуряющей, и вот в
маме кончились силы. Ока сорвала маску, опустилась на сундук, зажала ладони коленями и
замолчала.
Потом она проводила по лицу рукой, взбадривалась, стараясь улыбнуться, но улыбка
получалась жалкой. Мама вскакивала, пробовала хлопотать на пару с отцом, но тут же
садилась снова и опять жалобно смотрела на Толика. Так, словно он умирал.
Промелькнули часы, и отец сказал:
— Ну пора! Присядем на дорогу.
Прозрачные мамины глаза опять заблестели, она безвольно опустилась на чемодан,
повесила голову, и был миг, когда Толик подумал: все-таки она не выдержит, и никуда они
не поедут.
Хотел ли он этого?
И да и нет… Но все-таки, пожалуй, нет. Толком он еще не представлял, как будет жить
один на один с бабкой Шурой, — наверное, будет несладко. Но лишь ради этого ему не
хотелось иного решения. Пусть едут! Пусть! Надо, чтобы они уехали. Для них же самих.
— Ну, встали! — сказал отец, и Толик заметил, как медленным, грустным взглядом
отец осмотрел комнату. Абажур, медузой висящий под потолком, старый шкаф, которому не
дал цены нотариус, диван, комод, старый бабкин сундук…
Тут же отец встрепенулся, заулыбался весело, думая, наверное, о новом доме и о
дороге.