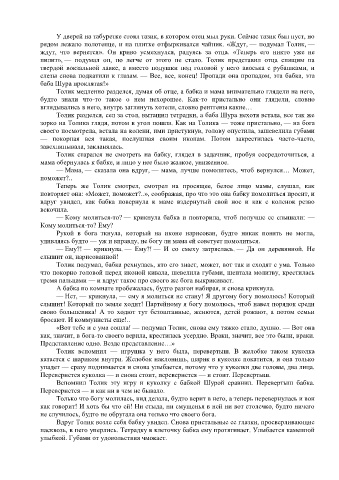Page 24 - Лабиринт
P. 24
У дверей на табуретке стоял тазик, в котором отец мыл руки. Сейчас тазик был пуст, но
рядом лежало полотенце, и на плитке отфыркивался чайник. «Ждут, — подумал Толик, —
ждут, что вернется». Он криво усмехнулся, радуясь за отца. «Теперь его никто уже не
пилит», — подумал он, но легче от этого не стало. Толик представил отца спящим на
твердой вокзальной лавке, а вместо подушки под головой у него авоська с рубашками, и
слезы снова подкатили к глазам. — Все, все, конец! Пропади она пропадом, эта бабка, эта
баба Шура проклятая!»
Толик медленно разделся, думая об отце, а бабка и мама внимательно глядели на него,
будто знали что-то такое о нем нехорошее. Как-то пристально они глядели, словно
вглядывались в него, внутрь заглянуть хотели, словно рентгены какие…
Толик разделся, сел за стол, вытащил тетрадки, а баба Шура нехотя встала, все так же
зорко на Толика глядя, потом в угол пошла. Как на Толика — тоже пристально, — на бога
своего посмотрела, встала на колени, ими пристукнув, голову опустила, зашевелила губами
— покорная вся такая, послушная своим иконам. Потом закрестилась часто-часто,
завсхлипывала, закланялась.
Толик старался не смотреть на бабку, глядел в задачник, пробуя сосредоточиться, а
мама обернулась к бабке, и лицо у нее было жалкое, униженное.
— Мама, — сказала она вдруг, — мама, лучше помолитесь, чтоб вернулся… Может,
поможет?..
Теперь же Толик смотрел, смотрел на просящее, белое лицо мамы, слушал, как
повторяет она: «Может, поможет?..», соображая, про что это она бабку помолиться просит, и
вдруг увидел, как бабка повернула к маме вздернутый свой нос и как с коленок резво
вскочила.
— Кому молиться-то? — крикнула бабка и повторила, чтоб получше ее слышали: —
Кому молиться-то? Ему?
Рукой в бога ткнула, который на иконе нарисован, будто никак понять не могла,
удивляясь будто — уж и вправду, не богу ли мама ей советует помолиться.
— Ему?! — крикнула. — Ему?! — И со смеху затряслась. — Да он деревянной. Не
слышит он, нарисованной!
Толик подумал, бабка рехнулась, кто его знает, может, вот так и сходят с ума. Только
что покорно головой перед иконой кивала, шевелила губами, шептала молитву, крестилась
тремя пальцами — и вдруг такое про своего же бога выкрикивает.
А бабка по комнате пробежалась, будто разгон набирая, и снова крикнула.
— Нет, — крикнула, — ему я молиться не стану! Я другому богу помолюсь! Который
слышит! Который по земле ходит! Партейному я богу помолюсь, чтоб навел порядок среди
свово большевика! А то ходют тут безоштанные, женются, детей рожают, а потом семьи
бросают. И коммунисты еще!..
«Вот тебе и с ума сошла! — подумал Толик, снова ему тяжко стало, душно. — Вот она
как, значит, в бога-то своего верила, крестилась усердно. Враки, значит, все это были, враки.
Представление одно. Везде представление…»
Толик вспомнил — игрушка у него была, перевертыш. В желобке таком куколка
катается с шариком внутри. Желобок наклонишь, шарик в куколке покатится, и она только
упадет — сразу поднимается и снова улыбается, потому что у куколки две головы, два лица.
Перевернется куколка — и снова стоит, перевернется — и стоит. Перевертыш.
Вспомнил Толик эту игру и куколку с бабкой Шурой сравнил. Перевертыш бабка.
Перевернется — и как ни в чем не бывало.
Только что богу молилась, вид делала, будто верит в него, а теперь перевернулась и вон
как говорит! И хоть бы что ей! Ни стыда, ни смущенья в ней ни вот столечко, будто ничего
не случилось, будто не обругала она только что своего бога.
Вдруг Толик возле себя бабку увидел. Снова пристальные ее глазки, просверливающие
насквозь, в него уперлись. Тетрадку в клеточку бабка ему протягивает. Улыбается каменной
улыбкой. Губами от удовольствия чмокает.