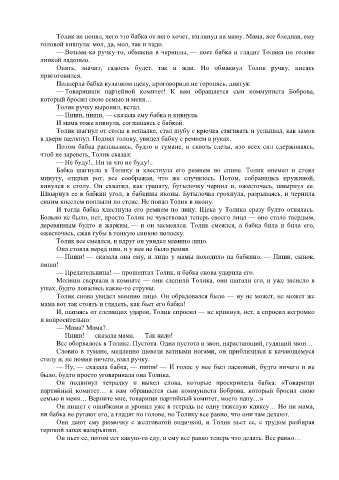Page 25 - Лабиринт
P. 25
Толик не понял, чего это бабка от него хочет, взглянул на маму. Мама, все бледная, ему
головой кивнула: мол, да, мол, так и надо.
— Возьми-ка ручку-то, обмакни в чернилы, — поет бабка и гладит Толика по голове
липкой ладонью.
Опять, значит, гадость будет, так и жди. Но обмакнул Толик ручку, писать
приготовился.
Подперла бабка кулачком щеку, проговорила не торопясь, диктуя:
— Товаришши партейной комитет! К вам обращается сын коммуниста Боброва,
который бросил свою семью и меня…
Толик ручку выронил, встал.
— Пиши, пиши, — сказала ему бабка и кивнула.
И мама тоже кивнула, соглашаясь с бабкой.
Толик шагнул от стола к вешалке, стал шубу с крючка стягивать и услышал, как замок
в двери щелкнул. Поднял голову, увидел бабку с ремнем в руках.
Потом бабка расплылась, будто в тумане, и сквозь слезы, изо всех сил сдерживаясь,
чтоб не зареветь, Толик сказал:
— Не буду!.. Ни за что не буду!..
Бабка шагнула к Толику и хлестнула его ремнем по спине. Толик онемел и стоял
минуту, открыв рот, все соображая, что же случилось. Потом, собравшись пружиной,
кинулся к столу. Он схватил, как гранату, бутылочку чернил и, ожесточась, швырнул ее.
Швырнул ее в бабкин угол, в бабкины иконы. Бутылочка грохнула, разрываясь, и чернила
синим киселем поплыли по стене. Не попал Толик в икону.
И тогда бабка хлестнула его ремнем по лицу. Щека у Толика сразу будто отнялась.
Больно не было, нет, просто Толик не чувствовал теперь своего лица — оно стало твердым,
деревянным будто и жарким, — и он засмеялся. Толик смеялся, а бабка била и била его,
ожесточась, сжав губы в тонкую синюю полоску.
Толик все смеялся, и вдруг он увидел мамино лицо.
Она стояла перед ним, и у нее не было ремня.
— Пиши! — сказала она ему, и лицо у мамы походило на бабкино. — Пиши, сынок,
пиши!
— Предательница! — прошептал Толик, и бабка снова ударила его.
Молнии сверкали в комнате — они слепили Толика, они шатали его, и уже звенело в
ушах, будто лопались какие-то струны.
Толик снова увидел мамино лицо. Он обрадовался было — ну не может, не может же
мама вот так стоять и глядеть, как бьет его бабка!
И, шатаясь от слепящих ударов, Толик спросил — не крикнул, нет, а спросил негромко
и вопросительно:
— Мама? Мама?..
— Пиши! — сказала мама. — Так надо!
Все оборвалось в Толике. Пустота. Одна пустота и звон, нарастающий, гудящий звон…
Словно в тумане, медленно шевеля ватными ногами, он приблизился к качающемуся
столу и, не помня ничего, взял ручку.
— Ну, — сказала бабка, — пиши! — И голос у нее был ласковый, будто ничего и не
было, будто просто уговаривала она Толика.
Он подвинул тетрадку и вывел слова, которые проскрипела бабка: «Товарищи
партийный комитет… к вам обращается сын коммуниста Боброва, который бросил свою
семью и меня… Верните мне, товарищи партийный комитет, моего папу…»
Он пишет с ошибками и уронил уже в тетрадь не одну тяжелую кляксу… Но ни мама,
ни бабка не ругают его, а гладят по голове, но Толику все равно, что они там делают.
Они дают ему рюмочку с желтоватой водичкой, и Толик пьет ее, с трудом разбирая
терпкий запах валерьянки.
Он пьет ее, потом ест какую-то еду, и ему все равно теперь что делать. Все равно…