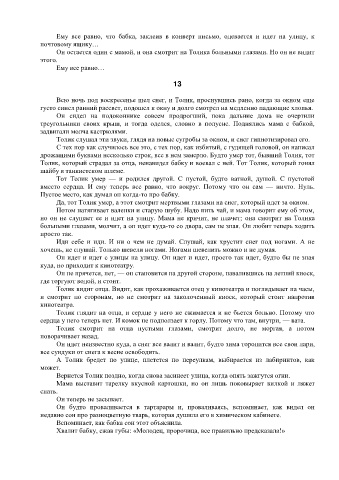Page 26 - Лабиринт
P. 26
Ему все равно, что бабка, заклеив в конверт письмо, одевается и идет на улицу, к
почтовому ящику…
Он остается один с мамой, и она смотрит на Толика больными глазами. Но он не видит
этого.
Ему все равно…
13
Всю ночь под воскресенье шел снег, и Толик, проснувшись рано, когда за окном еще
густо синел ранний рассвет, подошел к окну и долго смотрел на медленно падающие хлопья.
Он сидел на подоконнике совсем продрогший, пока дальние дома не очертили
треугольники своих крыш, и тогда оделся, словно в полусне. Поднялись мама с бабкой,
задвигали молча кастрюлями.
Толик слушал эти звуки, глядя на новые сугробы за окном, и снег гипнотизировал его.
С тех пор как случилось все это, с тех пор, как избитый, с гудящей головой, он написал
дрожащими буквами несколько строк, все в нем замерло. Будто умер тот, бывший Толик, тот
Толик, который страдал за отца, ненавидел бабку и воевал с ней. Тот Толик, который гонял
шайбу в танкистском шлеме.
Тот Толик умер — и родился другой. С пустой, будто ватной, душой. С пустотой
вместо сердца. И ему теперь все равно, что вокруг. Потому что он сам — ничто. Нуль.
Пустое место, как думал он когда-то про бабку.
Да, тот Толик умер, а этот смотрит мертвыми глазами на снег, который идет за окном.
Потом натягивает валенки и старую шубу. Надо пить чай, и мама говорит ему об этом,
но он не слушает ее и идет на улицу. Мама не кричит, не плачет; она смотрит на Толика
больными глазами, молчит, а он идет куда-то со двора, сам не зная. Он любит теперь ходить
просто так.
Иди себе и иди. И ни о чем не думай. Слушай, как хрустит снег под ногами. А не
хочешь, не слушай. Только шевели ногами. Ногами шевелить можно и не думая.
Он идет и идет с улицы на улицу. Он идет и идет, просто так идет, будто бы не зная
куда, но приходит к кинотеатру.
Он не прячется, нет, — он становится на другой стороне, навалившись на летний киоск,
где торгуют водой, и стоит.
Толик видит отца. Видит, как прохаживается отец у кинотеатра и поглядывает на часы,
и смотрит по сторонам, но не смотрит на заколоченный киоск, который стоит напротив
кинотеатра.
Толик глядит на отца, и сердце у него не сжимается и не бьется больно. Потому что
сердца у него теперь нет. И комок не подползает к горлу. Потому что там, внутри, — вата.
Толик смотрит на отца пустыми глазами, смотрит долго, не моргая, а потом
поворачивает назад.
Он идет неизвестно куда, а снег все валит и валит, будто зима торопится все свои лари,
все сундуки от снега к весне освободить.
А Толик бредет по улице, плетется по переулкам, выбирается из лабиринтов, как
может.
Вернется Толик поздно, когда снова засинеет улица, когда опять зажгутся огни.
Мама выставит тарелку вкусной картошки, но он лишь поковыряет вилкой и ляжет
спать.
Он теперь не засыпает.
Он будто проваливается в тартарары и, проваливаясь, вспоминает, как видел он
недавно сон про разноцветную тварь, которая душила его в химическом кабинете.
Вспоминает, как бабка сон этот объяснила.
Хвалит бабку, сжав губы: «Молодец, пророчица, все правильно предсказала!»