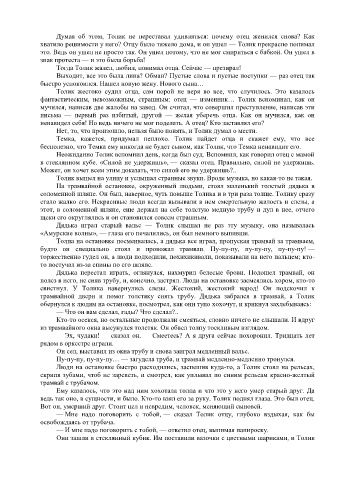Page 73 - Лабиринт
P. 73
Думая об этом, Толик не переставал удивляться: почему отец женился снова? Как
хватило решимости у него? Отцу было тяжело дома, и он ушел — Толик прекрасно понимал
это. Ведь он ушел не просто так. Он ушел потому, что не мог смириться с бабкой. Он ушел в
знак протеста — и это была борьба!
Тогда Толик жалел, любил, понимал отца. Сейчас — презирал!
Выходит, все это была липа? Обман? Пустые слова и пустые поступки — раз отец так
быстро успокоился. Нашел новую жену. Нового сына…
Толик жестоко судил отца, сам порой не веря во все, что случилось. Это казалось
фантастическим, невозможным, страшным: отец — изменник… Толик вспоминал, как он
мучился, написав две жалобы на завод. Он считал, что совершил преступление, написав эти
письма — первый раз избитый, другой — желая уберечь отца. Как он мучился, как он
ненавидел себя! Но ведь ничего не мог поделать. А отец? Кто заставлял его?
Нет, то, что произошло, нельзя было понять, и Толик думал о мести.
Темка, кажется, придумал неплохо. Толик найдет отца и скажет ему, что все
бесполезно, что Темка ему никогда не будет сыном, как Толик, что Темка ненавидит его.
Неожиданно Толик вспомнил день, когда был суд. Вспомнил, как говорил отец с мамой
в стеклянном кубе. «Силой не удержишь», — сказал отец. Правильно, силой не удержишь.
Может, он хочет всем этим доказать, что силой его не удержишь?..
Толик вышел на улицу и услышал странные звуки. Вроде музыка, но какая-то не такая.
На трамвайной остановке, окруженный людьми, стоял маленький толстый дядька в
соломенной шляпе. Он был, наверное, чуть повыше Толика и в три раза толще. Толику сразу
стало жалко его. Некрасивые люди всегда вызывали в нем смертельную жалость и слезы, а
этот, в соломенной шляпе, еще держал на себе толстую медную трубу и дул в нее, отчего
щеки его округлялись и он становился совсем страшным.
Дядька играл старый вальс — Толик слышал не раз эту музыку, она называлась
«Амурские волны», — глаза его печалились, он был немного выпивши.
Толпа на остановке посмеивалась, а дядька все играл, пропуская трамвай за трамваем,
будто он специально стоял и провожал трамваи. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, пу-пу-пу! —
торжественно гудел он, а люди подходили, похихикивали, показывали на него пальцем; кто-
то постучал из-за спины по его шляпе.
Дядька перестал играть, оглянулся, нахмурил белесые брови. Подошел трамвай, он
полез в него, не сняв трубу, и, конечно, застрял. Люди на остановке засмеялись хором, кто-то
свистнул. У Толика навернулись слезы. Жестокий, жестокий народ! Он подскочил к
трамвайной двери и помог толстяку снять трубу. Дядька забрался в трамвай, а Толик
обернулся к людям на остановке, посмотрел, как они тупо хохочут, и крикнул захлебываясь:
— Что он вам сделал, гады? Что сделал?..
Кто-то осекся, но остальные продолжали смеяться, словно ничего не слышали. И вдруг
из трамвайного окна высунулся толстяк. Он обвел толпу тоскливым взглядом.
— Эх, чудаки! — сказал он. — Смеетесь? А я друга сейчас похоронил. Тридцать лет
рядом в оркестре играли.
Он сел, выставил из окна трубу и снова заиграл медленный вальс.
Пу-пу-пу, пу-пу-пу… — загудела труба, и трамвай медленно-медленно тронулся.
Люди на остановке быстро расходились, заспешив куда-то, а Толик стоял на рельсах,
скрипя зубами, чтоб не зареветь, и смотрел, как уплывал по синим рельсам красно-желтый
трамвай с трубачом.
Ему казалось, что это над ним хохотала толпа и что это у него умер старый друг. Да
ведь так оно, в сущности, и было. Кто-то взял его за руку. Толик поднял глаза. Это был отец.
Вот он, умерший друг. Стоит цел и невредим, человек, меняющий сыновей.
— Мне надо поговорить с тобой, — сказал Толик отцу, глубоко вздыхая, как бы
освобождаясь от трубача.
— И мне надо поговорить с тобой, — ответил отец, вынимая папироску.
Они зашли в стеклянный кубик. Им поставили вазочки с цветными шариками, и Толик