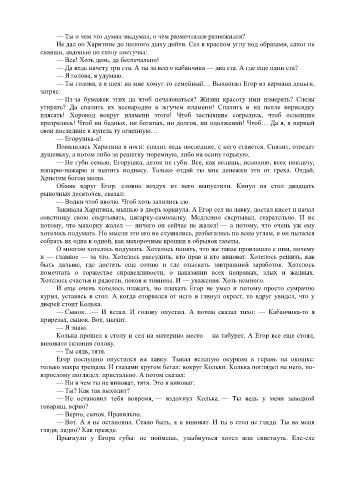Page 32 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 32
— Ты о чем это думал-выдумал, о чем размечтался-разнежился?
Не дал он Харитине до полного дыху дойти. Сел в красном углу под образами, сапог не
снявши, ладонью по столу постучал:
— Все! Хоть день, да беспечально!
— Да ведь начету три ста. А ты за всего кабанчика — два ста. А где еще один ста?
— Я голова, я удумаю.
— Ты голова, а я шея: на мне хомут-то семейный… Выхватил Егор из кармана деньги,
затряс:
— Из-за бумажек этих да чтоб печаловаться? Жизни красоту ими измерять? Слезы
утирать? Да спалить их всенародно в жгучем пламени! Спалить и на пепле вприсядку
плясать! Хоровод вокруг пламени этого! Чтоб застывшие согрелись, чтоб ослепшие
прозрелись! Чтоб ни бедных, ни богатых, ни долгов, ни одолжений! Чтоб… Да я, я первый
свои последние в купель ту огненную…
— Егорушка-а!
Повалилась Харитина в ноги: спалит ведь последние, с него станется. Спалит, отведет
душеньку, а потом либо за решетку тюремную, либо на осину горькую.
— Не губи семью, Егорушка, деток не губи. Все, как велишь, исполню, всех покличу,
напарю-нажарю и выпить поднесу. Только отдай ты мне денежки эти от греха. Отдай,
Христом богом молю.
Обмяк вдруг Егор: словно воздух из него выпустили. Кинул на стол двадцать
рыночных десяточек, сказал:
— Водки чтоб вволю. Чтоб хоть залились ею.
Закивала Харитина, мышью в дверь юркнула. А Егор сел на лавку, достал кисет и начал
советницу свою свертывать, цигарку-самопалку. Медленно свертывал, старательно. И не
потому, что махорку жалел — ничего он сейчас не жалел! — а потому, что очень уж ему
хотелось подумать. Но мысли эти его не слушались, разбегались по всем углам, и он пытался
собрать их одна к одной, как махорочные крошки в обрывок газеты,
О многом хотелось подумать. Хотелось понять, что же такое произошло с ним, почему
и — главное — за что. Хотелось рассудить, кто прав и кто виноват. Хотелось решить, как
быть дальше, где достать еще сотню и где отыскать завтрашний заработок. Хотелось
помечтать о торжестве справедливости, о наказании всех неправых, злых и жадных.
Хотелось счастья и радости, покоя и тишины. И — уважения. Хоть немного.
И еще очень хотелось плакать, но плакать Егор не умел и потому просто сумрачно
курил, уставясь в стол. А когда оторвался от него и глянул окрест, то вдруг увидел, что у
дверей стоит Колька.
— Сынок…— И встал. И голову опустил. А потом сказал тихо: — Кабанчика-то я
прирезал, сынок. Вот, значит.
— Я знаю.
Колька прошел к столу и сел на материно место— на табурет. А Егор все еще стоял,
виновато склонив голову.
— Ты сядь, тятя.
Егор послушно опустился на лавку. Тыкал вслепую окурком в герань на окошке:
только махра трещала. И глазами кругом бегал: вокруг Кольки. Колька поглядел на него, по-
взрослому поглядел: пристально. А потом сказал:
— Ни в чем ты не виноват, тятя. Это я виноват.
— Ты? Как так выходит?
— Не остановил тебя вовремя, — вздохнул Колька. — Ты ведь у меня заводной
товарищ, верно?
— Верно, сынок. Правильно.
— Вот. А я не остановил. Стало быть, я и виноват. И ты в стол не гляди. Ты на меня
гляди, ладно? Как прежде.
Прыгнули у Егора губы: не поймешь, улыбнуться хотел или свистнуть. Еле-еле